Карл Шмитт
Впервые опубликовано 7 августа 2010 года; содержательно переработано 29 августа 2019 года.
Карл Шмитт (1888–1985) — консервативный немецкий юрист, теоретик конституционного права и политический мыслитель. Шмитта часто считают одним из главных критиков либерализма, парламентской демократии и либерального космополитизма. Но полезность и значимость работ Шмитта вызывает споры, главным образом из-за его интеллектуальной поддержки и активного участия в национал-социализме.
Биографический очерк
Ранняя карьера Карла Шмитта как ученого юриста приходится на последние годы правления империи Вильгельма (см. о жизни и карьере Шмитта: Bendersky 1983; Balakrishnan 2000; Mehring 2009). Но Шмитт написал свои наиболее влиятельные работы, будучи молодым профессором конституционного права в Бонне, а затем в Берлине, во время Веймарского периода: «Политическая теология», в которой представлена теория суверенитета Шмитта, появилась в 1922 году, а затем в 1923 году последовал кризис парламентской демократии, который атаковал легитимность парламентской власти. В 1927 году Шмитт опубликовал первую версию своей самой известной работы «Понятие политического», отстаивая позицию, согласно которой истинная политика основана на различии друга и врага. Апогеем творчества Шмитта в Веймарский период и, возможно, его величайшим достижением является «Конституционная теория» 1928 года, которая системно применяла политическую теорию Шмитта к интерпретации Веймарской конституции.
Во время политического и конституционного кризиса поздней Веймарской республики Шмитт опубликовал «Легальность и легитимность», ясный анализ распада парламентской власти в Германии, а также «Хранителя конституции», в котором утверждалось, что хранителем конституции должен быть признан президент как глава исполнительной власти, а не Конституционный суд. В этих работах позднего Веймарского периода провозглашенная Шмиттом цель защиты Веймарской конституции порою едва отлична от призыва к пересмотру конституции в сторону более авторитарных политических рамок (Dyzenhaus 1997: 70–85; Berthold 1999; Kennedy 2004: 154–178; Breuer 2012).
Шмитт быстро получил авторитетное положение в юридической профессии и стал восприниматься как «коронованный юрист» национал-социализма (Rüthers 1990; Mehring 2009: 304–436). Он с неоправданным энтузиазмом посвятил себя таким задачам, как защита внесудебных убийств Гитлером политических оппонентов (PB 227–232) и очищение немецкой юриспруденции от еврейского влияния (Gross 2007; Mehring 2009: 358–380). Но в 1936 году Шмитт был отстранен от властной должности в юридической академии после борьбы с академическими конкурентами, которые рассматривали Шмитта как перебежчика, перешедшего в нацизм только для того, чтобы продвинуть свою карьеру. О причинах готовности Шмитта ассоциировать себя с нацистами ведется множество дискуссий. Некоторые авторы указывают на сильные амбиции Шмитта и его оппортунистический характер, но отрицают идеологическую близость (Bendersky 1983: 195–242; Schwab 1989).
Однако высказывались убедительные мнения, что антилиберальное право Шмитта, а также его яростный антисемитизм побудили его поддержать нацистский режим (Dyzenhaus 1997: 85–101; Scheuerman 1999). На протяжении всего позднего нацистского периода деятельность Шмитта была сосредоточена на вопросах международного права. Такой поворот, по-видимому, вызвала задача оправдать нацистский экспансионизм. Но Шмитта интересовал более широкий вопрос об основах международного права, и он был убежден, что поворот к либеральному космополитизму в международном праве ХХ века подорвет условия стабильного и легитимного международного правопорядка.
Теоретическая работа Шмитта об основах международного права нашла свое место в «Номосе Земли», написанном в начале 1940-х годов, но не опубликованном до 1950 года. Из-за своей поддержки и участия в нацистской диктатуре Шмитт был ненадолго задержан и допрошен в конце войны в качестве потенциального обвиняемого на Нюрнбергском процессе (ECS; AN), законность которого он оспаривал в юридических записках, подготовленных для защиты немецкого промышленника Фридриха Флика (IC).
Настойчиво не раскаивающемуся Шмитту запретили возвращаться на академическое поприще после 1945 года (Mehring 2009: 438–463). Тем не менее он оставался важной фигурой на консервативной интеллектуальной арене Западной Германии вплоть до своей смерти в 1985 году (van Laak 2002) и пользовался значительным негласным влиянием в других странах (Scheuerman 1999: 183–251; Müller 2003).
Неудивительно, что значение и ценность работ Шмитта вызывает бурные споры (Caldwell 2005). Группа авторов, симпатизирующих Шмитту, утверждает, что анализ либерального конституционализма в Веймарский период, проведенный Шмиттом, отделим от его поддержки национал-социализма и что он представляет собой глубокий и важный анализ политических предпосылок хорошо функционирующей либеральной конституциональной системы (Bendersky 1983; Schwab 1989; Gottfried 1990; Kennedy 2004; Schupmann 2017). Со стороны левых работа Шмитта иногда используется для того, чтобы показать сходства между чисто экономическим либерализмом и политическим авторитаризмом (Mauss 1980; Cristi 1998).
Мнение о том, что Шмитта Веймарского периода можно рассматривать как защитника либерального порядка, подвергалось сомнению авторами, подчеркивающими преемственность между концепциями Шмитта о праве, суверенитете, демократии и фашистской идеологии (Wolin 1992; Dyzenhaus 1997; Scheuerman 1999).
Однако работы Шмитта признаются довольно важными. Утверждалось, что политический либерализм Ролза уязвим для критики либерализма Шмиттом из-за его нежелания основываться на либеральной концепции блага (Dyzenhaus 1997: 218–258) или из-за его отказала признать антагонистическую природу политики (Mouffe 1999b).
Более того, взгляды Шмитта на суверенитет и чрезвычайные полномочия часто рассматриваются как интеллектуальная основа современных призывов к сильной исполнительной власти, не стесненной ограничениями законности (Dyzenhaus 2006: 35–54; Scheuerman 2006; Posner and Vermeule 2010: 3–24). Наконец, все большее число авторов сосредотачивает свое внимание на определенных аргументах Шмитта, которые рассматриваются как заслуживающие систематического развития.
В последнее время наибольший интерес представляет теория народного суверенитета Шмитта (Arato 1995; Lindahl 2007; Kalyvas 2008: 79–186; Loughlin 2010: 209–237; Kahn 2011; Colon-Rios 2012: 79–101; Minkkinen 2013; Vinx 2013a) и его концепция мирового порядка (Odysseos and Petito 2007; Slomp 2009; Legg 2011; Benhabib, 2012; Vinx 2013b; Hathaway and Shapiro 2017: ch. 10).
Суверенитет и диктатура
Современные либеральные конституции не признают носителя суверенной власти, и современная правовая и конституционная теория часто пытаются обойтись без этого понятия. Но Шмитт утверждает в «Политической теологии», что такие попытки избавиться от суверенитета не могут оказаться успешными.
По мнению Карла Шмитта, не может быть функционирующего правового порядка без суверенной власти (PT 8–34; Dyzenhaus 1997: 42–51; McCormick 1997: 121–156; Hofmann 2002: 49–64; Kennedy 2004: 54–91; Kahn 2011: 31–61; Croce and Salvatore 2013: 13–29; Vinx 2015). Согласно Шмитту, либеральные конституционалисты обычно полагают, что все законные частные акты государства должны применять общие правовые нормы, поэтому люди подчиняются только определенным и предсказуемым требованиям закона, а не потенциально произвольной власти людей (СТ 18–26; см. также СТ 169–196, CPD 33–50).
Эта точка зрения упускает из виду, утверждает Шмитт, что общие правовые нормы часто не дают четкого руководства без значительного толкования и внутригосударственного законодательства (PT 29–33; GU 21–43). Для того, чтобы закон вступил в силу, необходим орган, которые будет решать, как применять общие правовые нормы к конкретным случаям и как решать проблемы оспариваемого толкования или определенные случаи.
Однако существующее положение закона само по себе не определяет, кто должен толковать и применять его. Следовательно, необходим суверенный орган, предшествующий закону, который будет принимать решения о применении общих правовых норм к конкретным случаям (PT 29–33).
Этот аргумент, по-видимому, предполагает, что все правовые нормы являются материальными нормами, обеспечивающими существенные основания для принятия правового решения. Но современные правовые системы, как правило, содержат компетенционные нормы в дополнение к материальным нормам.
Таким образом, представляется, что точка зрения, согласно которой вся легитимная политическая власть зависит от законного разрешения, не столь оправдана, как предполагает Шмитт (Kaufmann 1988: 337–345). Закон может определить для любой материальной правовой нормы, какое лицо или учреждение обладает компетенцией толковать и применять ее. Субъекты права могут признать, что окончательное решение может оказаться обязательным, даже если оно неверно.
И в этом ограниченном смысле Шмитт прав, когда отсылает к высказыванию Гоббса о том, что закон создается авторитетом, а не истиной. Но то, что правовая система посредством своих компетенционных норм предусматривает авторитетное толкование своих материальных правовых норм, вряд ли означает, что она должна включать и суверена в традиционном понимании этого термина. Имплицитный ответ Шмитта на это возражение гласит, что применимость правовых норм предполагает общее условие социальной нормальности.
Правовые нормы, утверждает Шмитт, не могут быть применены к хаосу. Они нуждаются в «гомогенной среде» (PT 15). По мнению Шмитта, никакая правовая норма не может регулировать чрезвычайное положение или абсолютное состояние исключения.
В условиях аномальной ситуации дальнейшее применение закона по обычным административным и судебным каналам приведет к бессистемным и непредсказуемым результатам, не допуская при этом принятия эффективных мер по прекращению чрезвычайного положения (PT 16; GU 44–114; Scheuerman 1996; Hofmann 2002: 17–33). Если применимость материальных правовых норм предполагает условие нормальности, допускает Шмитт, то государство должно иметь право решать, приостанавливать ли применение своих законов на том основании, что ситуация ненормальная.
Отсюда знаменитое определение суверенитета Шмитта, согласно которому суверен — это тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении.
Если в данном государстве есть какое-то лицо или институт, способный полностью приостановить действие закона и затем использовать не предусмотренную законом силу для нормализации ситуации, то это лицо или институт является сувереном в этом государстве (PT 8–9). Любой правовой порядок, строго заключает Шмитт, основан на суверенном решении, а не на правовой норме (PT 13, 16).
На это можно было бы ответить, что вполне возможно создать правовые условия для объявления чрезвычайного положения, а также юридические ограничения на допустимые средства борьбы с чрезвычайным положением. Однако Шмитт утверждает, что попытки узаконить исключительную ситуацию обречены на провал. Невозможно предвидеть характер будущих чрезвычайных ситуаций и заранее определить, какие средства могут потребоваться для их преодоления.
В результате позитивное право в лучшем случае может определить, кто должен решать, существует ли чрезвычайная ситуация, требующая полного приостановления действия закона. Но суверенное решение не может основываться на существующем материальном праве (PT 15).
По мнению Шмитта, даже не обязательно определять законом, кто может принять решение об исключении. Суверенный орган может существовать в правовом смысле этого слова даже в тех случаях, когда такой орган не признается позитивным конституционным правом. Все, что имеет значение, — это то, есть ли человек или институт, которые действительно обладают способностью принимать решение об исключении.
Если суверен, понимаемый таким образом, существует, то его полномочия приостанавливать действие закона не нуждаются в позитивном правовом признании, поскольку сама применимость закона зависит от ситуации нормальности, обеспечиваемой сувереном (PT 16). Но как быть с теми случаями, когда суверенитет не просто не признается в позитивном праве, а фактически не существует никого, кто мог бы успешно принять решение о полном приостановлении действия закона?
Это условие, по-видимому, применимо ко многим современным западным демократиям. Возможно, такие государства плохо подготовлены к радикальным чрезвычайным ситуациям. Но было бы неправильно заключать, что они не обладают правовым порядком.
Полный ответ Шмитта на это возражение станет ясен только из его дискуссии о «политическом». Возражение предполагает, однако, что утверждения Шмитта о суверенитете не могут быть однозначно поняты как утверждения о предпосылках простого фактического существования правовой системы.
Шмитт должен утверждать, что там, где ситуация нормальности или однородности, делающая результаты применения права детерминированными и предсказуемыми, больше не гарантируется сувереном, позитивная правовая система, состоящая из материальных норм и позитивных норм компетенции, больше не может быть легитимной (Mauss 1980: 81–121; Scheuerman 1999: 15–37; Hofmann 2002).
Если решение суверена об исключении не подлежит какому-либо существенному юридическому ограничению, то право принимать решение о положении исключения равносильно праву решать, что следует считать положением исключения (PT 16–17; Norris 2007). Однако мнение суверена по этому вопросу должно учитывать преобладающие социальные установки.
В противном случае суверен вряд ли обладал бы фактической способностью приостановить действие закона и успешно выступать против предполагаемой чрезвычайной ситуации. Для этого его решение должно быть поддержано достаточно большим и влиятельным электоратом. Тем не менее потребность в суверенном решении будет наибольшей в обществе, раздираемом серьезными идеологическими или социальными конфликтами.
И если среди социальных групп нет единодушия относительно того, какую ситуацию следует воспринимать как нормальную или исключительную, суверенное решение неизбежно будет вынуждено встать на сторону концепции нормальности одной группы против концепции нормальности другой. Создание сувереном условий нормальности, другими словами, представляет собой политическую идентичность сообщества, и оно, вероятно, будет происходить посредством насильственного подавления тех, чья концепция нормальности отличается от концепции суверена (D 174–191).
Таким образом, вопрос о легитимности права превращается в вопрос о легитимности осуществления сувереном основополагающего насилия, конституирующего идентичность.
Шмитт признает, что принцип демократии является единственным принципом легитимности, имеющимся в качестве идеологической основы современной Конституции (PT 45–47; CPD 22–32). Для того, чтобы концепция суверенитета Шмитта была оправданной, она должна иметь демократическое толкование. Но трудно понять, как это возможно. Единственным кандидатом на суверенитет в демократическом государстве является народный суверен, состоящий из политически равных граждан.
Народный суверен, по-видимому, не может быть шмиттовским сувереном, поскольку он будет способен принимать решения только в соответствии с существующими конституционными нормами, которые определяют, каким образом народ как коллектив должен сформировать единую волю. Шмитт подготовил основу для решения этой проблемы в «Диктатуре», своем историческом исследовании развития института диктатуры (McCormick 1997: 121–156; Cristi 1998: 108–125; Kalyvas 2008: 88–126; Kelly 2016).
Диктаторская власть в ее первоначальной, римской форме — это формально делегированная и ограниченная во времени власть защищать уже существующее республиканское положение посредством использования внеправовой силы (D 15–17, 19–44). Таким образом, римский диктатор явно не был сувереном в понимании Шмитта.
Однако в ходе современной конституционной истории институт диктатуры, утверждает Шмитт, слился с суверенитетом, и это слияние связало суверенитет с демократией.
Первым шагом на пути к этому слиянию, по мнению Шмитта, было использование комиссарской диктатуры в абсолютистском государстве раннего Нового времени. Абсолютистский правитель действительно обладал суверенной властью принимать решения об исключении и, таким образом, был способен разрешить комиссарам использовать диктаторские методы от своего имени. Но понятия диктатуры и суверенитета еще не были объединены.
Комиссарские диктаторы абсолютистского правителя были всего лишь агентами правителя и сами не обладали властью принимать решения об исключении.
Абсолютистский правитель, в свою очередь, хотя и обладал властью принимать решения об исключении, сам не был диктатором; во-первых, потому что он принимал решения не под чьей-то, а под своей собственной властью, а во-вторых, потому что от него, конечно, ожидали, что он будет полагаться на правовое управление как на свой обычный режим работы (D 44–61). Но отношение между суверенитетом и диктатурой изменилось во время Французской революции. Революционные правительства в значительной степени полагались на диктаторские действия, чтобы создать новую нормальную ситуацию, которая позволила бы новой конституции вступить в силу. Революционные правительства, как и абсолютистские монархи, претендовали на право решать вопрос об исключении, но они не претендовали на суверенитет. Скорее, они заявляли, что обладают властью принимать решения об исключении от имени французского народа, даже когда они управляли им с помощью диктаторских методов (D 174–191).
Суверенитет и диктатура слились в новом институте суверенной диктатуры: суверенный диктатор — это диктатор, который не защищает уже существующую конституцию, а пытается создать новую, и делает это не при помощи своей власти, а от имени народа (D 151–173).
Суверенная диктатура, по мнению Шмитта, является в высшей степени демократическим институтом. Она может существовать только там, где стало возможным принимать суверенное решение об исключении от имени народа.
Суверенитет, заключает Шмитт, не только совместим с демократией, но и занимает центральное место в ней, поскольку он осуществляется всегда и везде, где и когда основывается демократическая конституция (CT 109–110, 265–266; CPD 32). Тот факт, что демократическая конституция не может наделить конкретного человека постоянной суверенной властью, не означает, что возможность подлинного суверенного решения об исключении исчезла. Он лишь подразумевает, что решение об исключении в демократическом государстве должно приниматься в форме осуществления народной учредительной власти.
«Понятие политического» и критика либерализма
Суверенный диктатор имеет право, принимая решение об исключении, полностью отказаться от позитивного правового и конституционного порядка и создать новый позитивный правовой и конституционный порядок вместе с соответствующей ему ситуацией социальной нормальности.
Отсюда следует, что суверенный диктатор не может основывать свое заявление о том, что он действует от имени народа, на каком-либо официальном разрешении.
Если старая конституция уже не существует, а новая еще не вступила в силу, то формальной процедуры формирования народной воли не существует. И все же суверенный диктатор претендует на осуществление учредительной власти народа. Более того, конституционный порядок, который он должен создать, должен считаться законным, поскольку он основан на праве народа на конституцию (CT 136–139).
Позиция Шмитта предполагает, что можно говорить о существовании народа до создания каких-либо позитивных конституционных рамок.
Поэтому Шмитт должен разъяснить, что значит для народа существовать до создания каких-либо конституционных рамок, и он должен дать отчет о том, как политическое существование народа до создания каких-либо конституционных рамок может обосновать суверенную диктатуру.
«Понятие политического» Шмитта формулирует ответ на этот вопрос через объяснение природы «политического» (Sartori 1989; Gottfried 1990: 57–82; Meier 1998; Hofmann 2002: 94–116; Mehring 2003; Kennedy 2004: 92–118; Slomp 2009: 21–37; Schupmann 2017: 69–105). Шмитт, как известно, утверждает, что «специфическое политическое различение… это различение друга и врага» (CP 301). Различие между другом и врагом, уточняет Шмитт, по существу является общественным, а не частным. У отдельных людей могут быть личные враги, но личная вражда — это не политическое явление. Политика включает в себя группы, которые противостоят друг другу как взаимные враги (CP 28–9). Две группы оказываются в ситуации взаимной вражды тогда и только тогда, когда между ними существует возможность войны и взаимного убийства.
Таким образом, различение друга и врага затрагивает «высшую степень интенсивности… ассоциации или диссоциации» (CP 302, см. также 313). Предельная степень ассоциации — это готовность сражаться и умереть за других членов своей группы и вместе с ними, а предельная степень диссоциации — это готовность убивать других по той простой причине, что они являются членами враждебной группы (CP 307–308).
Шмитт считает, что политическая вражда может иметь самые разные корни.
Политическое отличается от других сфер жизни тем, что оно не основано на собственном содержательном различении.
Этическое, например, основывается на различении между моральным благом и моральным злом, эстетическое — на различении между красивым и безобразным, а экономическое — на различении между прибыльным и убыточным. Политическое различение между другом и врагом не сводится ни к этим другим различениям, ни к какому-либо конкретному различению — будь то языковое, этническое, культурное, религиозное и т.д., — которое может стать маркером коллективной идентичности и различий (CP 301–303).
Можно, например, враждовать с членами враждебной группы, которые считаются нравственно хорошими. И точно так же можно не вступать во враждебные отношения с группой, отдельных членов которой кто-то считает плохими. Того же мнения Шмитт придерживается и в отношении всех других существенных различений, которые могут стать маркерами идентичности и различий.
Отсюда, однако, не следует, что чье-либо представление о нравственном добре и зле, например, никогда не будет играть роли в отношениях политической вражды. Любое различение, которое может служить маркером коллективной идентичности и различия, приобретает политическое свойство, если оно обладает способностью в конкретной ситуации разделять людей на две противоборствующие группы, которые готовы в случае необходимости бороться друг против друга (CP 312–313). Будет ли конкретное различение играть эту роль, определяется не его собственной внутренней значимостью, а тем, полагается ли группа людей на него для определения своей собственной коллективной идентичности, и приходит ли она к мысли об этой идентичности, основанной на этом различении, как о чем-то, что, возможно, придется защищать от других групп путем ведения войны с ними.
Поскольку политическое не связано с каким-либо конкретным существенным различением, по Шмитту, наивно полагать, что политическое исчезнет, как только конфликты, возникающие из-за конкретного различия, перестанут мотивировать противоборствующие группы к борьбе. Политическая идентификация, вероятно, зацепится за другое различие, которое унаследует фатальную интенсивность политического конфликта (см. ND). Но там, где различение имеет политическое свойство, оно будет решающим различием, и сообщество, образованное им, будет решающей социальной единицей.
Поскольку политическое сообщество является социальной единицей, которая может распоряжаться жизнями людей, то там, где оно существует, оно сможет утверждать свое превосходство над всеми другими социальными группами в пределах своих границ и исключать насильственные конфликты между своими членами (CP 312–324).
Шмитт утверждает, что нельзя рассудить со стороны о том, что группа морально неоправданно определяет собственную идентичность тем или иным образом, и ввести политическую вражду с сопутствующей возможностью убийства, чтобы сохранить эту идентичность.
Только члены группы в состоянии решить, с точки зрения экзистенциально затронутого участника, является ли инаковость другой группы угрозой для их собственной формы жизни и, следовательно, потенциально требующей борьбы (CP 302–303; см. также CT 76–77, 136). Рассуждения Шмитта неявно опираются на коллективистскую разновидность логики самообороны.
Решение о том, представляет ли чье-либо поведение угрозу для вашей жизни в той или иной конкретной ситуации, и решение о том, необходимо ли использовать реактивное или даже превентивное насилие для устранения или избежания этой угрозы, не может быть делегировано третьему лицу. Группа, которая воспринимает угрозу своему существованию со стороны какой-либо другой группы, утверждает Шмитт, оказывается в аналогичном положении. Поэтому возможность посредничества третьей стороны исключается в подлинно политическом конфликте (CP 321–330).
Таким образом, политическое сообщество существует везде, где группа людей готова участвовать в политической жизни, отличаясь от посторонних путем проведения различия между друзьями и врагами (CP 313, 319–320). Способность группы проводить различие между другом и врагом не требует, чтобы группа уже обладала формальной организацией, позволяющей принимать коллективные решения, основанные на правилах.
Итак, народ будет существовать до всякой правовой формы до тех пор, пока существует чувство общей идентичности, достаточно сильное, чтобы мотивировать его членов сражаться и умирать за сохранение группы.
И пока народ существует таким образом, он способен благодаря этой поддержке подкреплять суверенную диктатуру, осуществляемую от его имени (CT 126–135).
Конечно, аналогия Шмитта между коллективным и индивидуальным интересом к самосохранению пытается затушевать существенные различия между двумя этими случаями. Политическое сообщество не довольствуется простым биологическим существованием.
Оно может умереть, несмотря на то, что все его отдельные члены продолжают жить.
Поэтому проведение различия между друзьями и врагами никогда не является простой реакцией на угрозу той форме существования, которая уже дана (см. Mouffe 1999: 49–50). Скорее, она активно конституирует политическую идентичность или существование народа и определяет, кто принадлежит народу. Для того, чтобы принадлежать народу, необходимо отождествлять себя с той существенной характеристикой, какой бы она ни была, которая определяет идентичность народа, и необходимо согласиться с тем, что эта характеристика определяет форму жизни, для сохранения которой необходимо быть готовым пожертвовать собственной жизнью в борьбе против тех, кто не принадлежит народу (CP 321).
Шмитт, конечно, понимает, что люди, не желающие идентифицировать себя таким образом, могут быть юридически признаны гражданами и жить законопослушно, в соответствии с нормами, санкционированными некой позитивной конституцией. Либеральные государства, по мнению Шмитта, имеют тенденцию не проводить должного различия между друзьями и врагами и, таким образом, распространят права членства на тех, кто на самом деле не принадлежит к политической нации.
В либеральном государстве, по опасениям Шмитта, политическая нация будет медленно увядать и погибать в результате распространения деполитизации, поддаваться внутренним раздорам или же она будет подавляться внешними врагами, которые окажутся более сплоченными (CP 347–356; L 144–228). Чтобы предотвратить эти опасности, необходимо убедиться, что границы политической нации и границы гражданства совпадают.
Это требование объясняет утверждение Шмитта в первом предложении «Понятия о политическом», что понятие государства предполагает понятие политического (CP 293).
Смысл этого замечания состоит в том, что государство может быть легитимным только в том случае, если его правовые границы содержат четкое разграничение между друзьями и врагами.
Чтобы достичь этой цели, Шмитт ясным образом предполагает, что суверенный диктатор, действующий в промежутках между двумя периодами позитивного конституционного порядка, должен гомогенизировать сообщество, апеллируя к четкому различению друзей и врагов, а также подавляя, устраняя или изгоняя внутренних врагов, которые не одобряют это различение (CP 321–323). Таким образом, суверенный диктатор выражает мнение сообщества по поводу того, что является нормальным или исключительным, и того, кто к чему принадлежит, и он создает гомогенную среду, которую Шмитт называет предпосылкой легитимного применения закона.
Шмитт замечает, что его понятие политического не является воинственным. Оно не прославляет войну, а просто утверждает, что сообщество, заинтересованное в политической жизни, должно быть готовым пойти на войну, если оно осознает, что его политическое существование находится под угрозой (CP 307–311). Но предлагаемая аналогия с самообороной, по-видимому, имеет мало морального смысла, учитывая, что концепция политического существования у Шмитта требует активного устранения тех, кого большинство воспринимает как внутренних врагов, и даже чествует это устранение как сущностную деятельность народного суверена.
Понимание Шмиттом политического предоставляет основание для его критики либерализма (Holmes 1993: 37–60; McCormick 1997; Dyzenhaus 1997: 58–70; Kahn 2011). На дескриптивном уровне Шмитт утверждает, что либерализм склонен отрицать необходимость подлинного политического решения, предполагая, что для индивидов нет ни необходимости, ни желания создавать группы путем проведения различий между друзьями и врагами. Либералы верят, что нет таких конфликтов между людьми, которые не могли бы быть разрешены в интересах каждого путем совершенствования цивилизации, технологий и социальной организации или после мирного обсуждения при помощи компромисса.
В результате либерализм не в состоянии обеспечить содержательные маркеры идентичности, которые могли бы обосновать подлинное политическое решение.
Либеральная политика, следовательно, сводится к попытке приручить государство во имя защиты индивидуальной свободы, однако она не способна создать политическую общность в первую очередь (CP 347–356; CPD 33–50).
Если это верное объяснение характера либеральной идеологии и целей либеральной политики, то Шмитт оказывается прав, когда заключает, что либерализм имеет тенденцию подрывать политическое существование общества, как он его понимает. Но для того, чтобы это наблюдение было равносильно критике либерализма, Шмитт должен объяснить, почему либеральное ниспровержение политического было бы нежелательным. Политические работы Шмитта содержат ряд довольно разных ответов на этот вопрос.
Первая линия мысли подчеркивает с отсылкой к Гоббсу, что государство может быть легитимным только до тех пор, пока оно сохраняет способность обеспечивать защиту своим членам (о взаимосвязи между Шмиттом и Гоббсом см. McCormick 1994; Tralau 2011; а также работы Шмитта L; SM; VR). А государство, пострадавшее от подрывной деятельности политического, вызванной либеральной идеологией, не сможет обеспечить защиту своим членам, во-первых, потому что оно не сможет защитить их от косвенного господства плюралистических заинтересованных групп, которые успешно населяют государство (LL 185–206, L 205–228), и, что еще более важно, потому что у него не будет власти защитить их от внешних врагов (CP 328–330). Если народ больше не желает выбирать между другом и врагом, то наиболее вероятным исходом будет не вечный мир, а анархия или подчинение другой группе, которая все еще готова взять на себя бремя политического.
Этот первый ответ, однако, не является окончательным словом Шмитта на тему того, почему либеральная деполитизация нежелательна.
Шмитт, по-видимому, допускает, что всемирный гегемон может однажды добиться глобальной деполитизации, лишив все другие сообщества возможности проводить свои собственные различия между друзьями и врагами, или что либерализм может однажды достичь всемирной культурной гегемонии, так что люди больше не будут заинтересованы в проведении различий между друзьями и врагами (CP 311, 334–335). Таким образом, Шмитт не может основывать свою аргументацию против либеральной деполитизации на утверждении, что это недостижимая цель. Ему нужно доказать, что она нежелательна, даже если она может быть достигнута (Strauss 2007).
Шмитт отвечает на этот вызов так: жизнь, в которой нет различия между другом и врагом, была бы поверхностной, незначительной и бессмысленной.
Полностью деполитизированный мир не мог бы предложить людям более высокой цели, чем увеличение потребления и наслаждений от современных развлечений.
Это сведет политику к нейтральному по отношению к ценности методу обеспечения материальных благ. В результате не будет больше никаких проектов или ценностей, которым люди призваны служить, независимо от того, хотят они этого или нет, и которые могут придать их жизни смысл, выходящий за рамки удовлетворения личных желаний (CP 311, 334–335; RK 21–7; PR; WS 85–108). Но то, что мир, в котором у человека нет возможности переступить через его интерес к индивидуальному удовлетворению в служении чему-то более ценному, был бы поверхностным и бессмысленным, еще не доказывает, что готовность убивать или умирать за политическое сообщество придаст смысл жизни, а тем более, что только она на это способна. Когда Шмитт утверждает, что защита политического — единственная цель, которая может оправдать убийство других и принесение в жертву собственной жизни (CP 311, 324–325), он без сомнений полагает, что жизнь политической общности, как он ее понимает, уникальна и чрезвычайно ценна.
Некоторые интерпретаторы объясняли враждебность Шмитта по отношению к либеральной деполитизации тем, что готовность различать друга и врага является теологическим долгом (Mehring 1989; Meier 1998; Groh 1991; Herrero 2015: 143–177; Vatter 2016). Шмитт утверждает в «Политической теологии», что все ключевые концепции современной теории государства являются секуляризованными теологическими концепциями, что предполагает, что политическая теория, которая продолжает использовать эти концепции, нуждается в теологическом фундаменте (PT 34–47). В «Понятии политического» Шмитт утверждает, что все истинные политические теоретики основывают свои взгляды на негативной антропологии, которая утверждает, что человек по своей природе зол и безнравственен, и поэтому должен быть сдержан сильным государством, способным провести различие между другом и врагом, если речь идет о социальном порядке (CP 335–346).
Этот последний тезис, признает Шмитт, может принять светскую форму, как у Гоббса и Макиавелли, в виде чисто дескриптивного утверждения, что человек изначально опасен для человека. Но Шмитт полагает, что эта светская версия негативной политической антропологии может быть преобразована в точку зрения, согласно которой человек хотя и опасен по своей природе, но совершенен, или в точку зрения, что опасное поведение человека является лишь случайным следствием ошибочной формы социальной организации (PT 48–59; L 144–160). Чтобы установить постоянную потребность в политической власти, негативная политическая антропология должна получить богословское прочтение, в котором опасная природа человека изображается как необратимый результат первородного греха.
Либеральная деполитизация, с этой точки зрения, должна быть отвергнута как признак человеческой гордыни, восставшей против Бога, который единственный — но только в конце истории — может избавить человечество от политической вражды.
Сам Шмитт признает, что теологическое обоснование политики основано на антропологическом символе веры (CP 335). И возникает соблазн сказать, что теория Шмитта оказывается философски неактуальной, если это действительно ее окончательное слово. Скорее всего, Шмитт ответил бы, что либеральное предположение о том, что человек совершенен, что человечество может преодолеть политическую вражду, и что для это желательно, тоже является предметом веры. Теологический партизан политического, по мнению Шмитта, так же оправдан в исповедании своей веры, как либеральный космополит, и в участии в преднамеренном разжигании политической вражды (CPD 65–76).
До тех пор, пока политический теолог может быть уверен в том, что различие между другом и врагом сохраняется, сторонники либерализма будут вынуждены выйти на арену политического и начать войну против сторонников политического. И эта борьба, надеется Шмитт, обеспечит дальнейшее существование политической вражды и предотвратит победу либеральной деполитизации (CP 311–312).
Теория демократии и конституционная теория
Понятие политического у Шмитта имеет тенденцию радикально отделять демократию от либерализма и, что еще более противоречиво, от сформировавшихся практик, основанных на нормах народного избирательного и парламентского законодательства, характеризующих нормальную работу современной демократии. Как же тогда Шмитт применил свою радикальную позицию к сфере конституционно-демократической политики Веймарской республики? (Главные обзоры: Dyzenhaus 1997; Kennedy 2004; Neumann 2015: 77–304; Preuss 2016.)
В работе «Кризис парламентской демократии» Шмитт понимает демократию как самоуправление народа. В демократическом государстве решения, принимаемые правителями, выражают волю народа (CPD 25–26). Однако принцип демократии, взятый в абстрактном виде, открыт для различных и конкурирующих интерпретаций. В политической практике тождество правящей воли с волей народа никогда не является простой данностью.
Скорее, это всегда результат акта идентификации. Когда политические решения принимаются большинством голосов, воля большинства отождествляется с волей народа, и каждый гражданин должен подчиняться, независимо от того, голосовал ли он вместе с большинством (CPD 26–30). Но что, спрашивает Шмитт, лежит в основе этой идентификации? Если большинство может взять верх над меньшинством и отождествлять свою волю с волей народа, то почему же воля меньшинства не может выражать волю народа? Что если группа демократических революционеров хочет установить демократию в обществе, где большинство людей выступает против принципа демократии? Разве с демократической точки зрения они не вправе отказаться от господства большинства, отождествить свою волю с истинной волей народа и подчинить соотечественников диктатуре перевоспитания? Шмитт предполагает, что такая диктатура все еще должна считаться демократической, поскольку она по-прежнему апеллирует к идее, что политическое правление должно основываться на воле народа (CPD 28–30).
Как только мы примем это утверждение, то придем к выводу, который Шмитт стремится установить в «Кризисе парламентской демократии».
Избирательные институты, которые мы обычно считаем фундаментально демократическими, на самом деле связаны с принципом демократии не более, чем диктатура во имя народа.
Последняя должна быть узаконена плебисцитом, инициированным харизматическим лидером, в ходе которого народу должно было быть позволено давать или не давать свое согласие, но никогда не инициировать этот вопрос (CPD 32; VV). Но этот вывод, безусловно, является преувеличением.
Даже демократическая диктатура, как бы она ни была важна для установления демократии, является исключительной и ограниченной во времени. Следовательно, должно существовать характерное для демократии условие правовой нормальности, и теория демократии должна объяснить нам, что это такое.
Очевидная попытка Шмитта отделить идеи демократии от какого-либо конкретного метода формирования воли не объясняет, почему демократическая традиция считает институциональные нормы, такие как выборы должностных лиц или расширение избирательного права, исключительно демократическим.
Шмитт признает эту проблему в своей работе «Конституционная теория». Идея о том, что законное политическое правление должно апеллировать к воле народа, утверждает теперь Шмитт, основана на ценности политического равенства (CT 255–267).
Политическое равенство обязывает нас отрицать естественные различия в статусе граждан. Как таковой ни один гражданин не имеет большего права на обладание политической властью, чем любой другой гражданин. Поэтому каждый гражданин должен участвовать на равных условиях, насколько это практически возможно, в осуществлении политического правления. Более того, там, где необходимо назначать государственных служащих с особыми полномочиями, не разделяемыми всеми гражданами, эти должностные лица должны назначаться путем регулярных выборов. Таким образом, ценность политического равенства объясняет, почему некоторые способы формирования воли считаются более тесно связанными с идеей демократии, чем другие (CT 280–285).
Однако уступка Шмитта ценности равенства сопровождается некоторым искажением. Политическое равенство, составляющее политическую общность, утверждает Шмитт, не может основываться на неисключительном равенстве всех людей как моральных субъектов. Каждое политическое сообщество основано на конституционном различии между включенными и исключенными, или друзьями и врагами. Таким образом, демократическое политическое сообщество, как и любое другое, должно опираться на некий маркер идентичности и различия, которые могут обосновать исключительную форму политического равенства, которая будет применима только к так называемым включенным (CT 257–264).
Шмитт далее определяет демократию как политическую систему, характеризующуюся идентичностью правящего и управляемого. Правящий и управляемый идентичны, если и только если правители и все управляемые разделяют содержательную идентичность, которую сообщество в целом, решая, кто его враги, решило превратить в основу своей политической идентичности (CT 264–267; см. также CPD 8–17).
Если бы все те, кто живет вместе как законно признанные граждане конституированного демократического государства, точно так же проводили различие между друзьями и врагами, то равное участие всех граждан в политическом процессе и назначение должностных лиц на выборах действительно было бы требованием демократической политической справедливости. Кроме того, можно было бы отождествлять результаты политического процесса с волей народа и считать их демократически легитимными, даже если некоторые граждане находятся в данный момент в меньшинстве. Но причина, по которой стало возможным отождествлять результаты демократического процесса с полей народа, заключается не в том, чтобы искать их в достоинствах, присущих самой демократической процедуре. Скорее, отождествление возможно только в силу того, что все граждане ранее были идентифицированы как члены группы, образованной на основе общего различия между друзьями и врагами (CPD 10–14; LL 195–196).
Если, вопреки нашему первоначальному предположению, те, кто живут вместе как законно признанные граждане образованного демократического государства, не разделяют политическую идентичность в смысле Шмитта, то тождества правящих со всеми управляемыми больше не существует, и образованное демократическое государство больше не будет по-настоящему демократическим. Правление большинства перерастет в нелегитимную форму косвенного правления одной общественной фракции над другой (HV 73–91; LL 185–206; L 205–228).
Итак, суверенная диктатура все еще необходима для того, чтобы создать фактическое равенство, лежащее в основе легитимного функционирования конституированной, управляемой нормами демократической политики.
Изложенное до сих пор понимание демократии лежит в основе интерпретации Шмиттом Веймарской конституции (Dyzenhaus 1997: 38–101; Caldwell 1997: 85–119; Scheuerman 1999: 61–84; Hofmann 2002: 117–152; Kennedy 2004: 119–153; Neumann 2015: 77–304; Preuss 2016; Schupmann 2017).
Демократическая конституция, утверждает Шмитт в работе «Конституционная теория», является продуктом осуществления конституционной власти со стороны политически единого народа (CT 75–77, 125–130, 140–146). Создание демократической конституции не должно рассматриваться как общественный договор, поскольку оно предполагает предшествующее существование народа как политического единства, как это объясняется в «Понятии политического» (CT 112–113; Böckenförde 1998). Если бы народ уже не существовал, рассуждает Шмитт, он не мог бы дать себе конституцию, а конституция, не данная народом самому себе, не была бы демократической конституцией. Создавая для себя конституцию, политически единый народ определяет конкретную форму своего политического существования, но сам себя не создает. Поскольку демократическая конституция является односторонним определением уже существующего народа конкретной формы его политического существования, то конституционная власть народа должна быть неотчуждаемой. Пока существует народ, он всегда может решить создать новую конституцию (CT 140–141). Теория конституционной власти Шмитта в последнее время получила большое внимание со стороны авторов, которые полагают, что она может помочь оживить конституционную демократию (Kalyvas 2008: 79–186; Colon-Rios 2012).
Шмитт признает, что было бы неправильно предполагать, что письменная конституция представит собой сознательный выбор народного суверена до конца. Революция немецкого народа в 1918 году, приведшая к созданию Веймарской конституции, например, выражала сознательное решение немецкого народа о создании демократического республиканского и федеративного государства, приверженного принципам верховенства закона и наделенного парламентской системой законодательства и управления (CT 77–78).
Но помимо общих принципов политического и социального устройства Веймарская конституция содержала большое количество конкретных положений, не отражающих сознательных решений народного суверена (CT 82–88). Шмитт утверждает, что было бы неверно рассматривать такие частные конституционные нормы как обладающие той же нормативной силой, что и решение народа о конкретной форме политического существования, которое выражается в основных принципах, имплицитно содержащихся в конституции.
Поэтому неверно рассматривать конституцию не иначе как совокупность всех частных конституционных норм и предполагать, что все эти нормы в равной степени подлежат конституционному изменению. Даже там, где, как в Веймаре, позитивная конституция предусматривает процедуру, которая, по-видимому, допускает изменение какой-либо конкретной конституционной нормы, следует понимать, что основные конституционные принципы, выбранные конституционной властью, не могут быть формально отменены. Утверждать обратное значит выступать за неправомерное присвоение учредительной власти народа одной партией или фракцией (CT 77–82, 147–158).
Шмитт считает, что этот аргумент будет иметь место даже в тех случаях, когда инициатива по внесению поправок в конституцию требует абсолютного большинства. Принятие политических решений на основе принципа большинства является законным только в том случае, если граждане разделяют политическую идентичность, и в этом случае они также согласуют набор конституционных основ. Там, где они этого не делают, идентичность правящего и всех управляемых больше не существует, и правление большинства, следовательно, станет простым разрешением на угнетение тех, кто оказался в меньшинстве. Такое угнетение не становится более легитимным там, где выдвигается и выполняется требование абсолютного большинства. То, что численное большинство относительно велико, а численное меньшинство относительно мало, не влечет за собой, как только исчезает общая политическая идентичность, что мы ближе к идентичности между правящим и всеми управляемыми, чем в случае простого большинства (LL 207–228). Шмитт приходит к выводу, что было бы абсурдом считать, что формальные процедуры внесения поправок, предусмотренные демократической конституцией, могут быть законно использованы для отмены ее конституционных основ (LL 257–268). До 1933 года Шмитт использовал этот аргумент, чтобы противостоять захвату власти нацистами (Machtergreifung) в законном порядке (Bendersky 1983: 107–191). Следует также отметить, что его утверждение о том, что в демократической конституции, основанной на принципе народного суверенитета, должны быть пределы конституционным поправкам и что эти пределы легитимируют понятие «воинствующей демократии», которая готова ограничить права личности на самозащиту, было очень влиятельным в послевоенной конституционной мысли, в Германии и в других странах (см. Ehmke 1953: 33–53; Fox and Nolte 1995: 18–20; Conrad 1999; Colon-Rios 2012: 126–151). Однако конституционная теория Шмитта не сводилась к безоговорочной защите либеральной демократии. В то время как Шмитт отрицает возможность изменения фундаментальной природы установленной конституции изнутри и осуждает опасности тирании простого численного большинства, он тем не менее утверждает возможность фундаментальных конституционных изменений посредством суверенной диктатуры, и он ясно дает понять, что немецкий народ, возобновив осуществление своей конституционной власти, мог бы законно выбрать нелиберальную и непарламентскую форму демократии (CT 75–77). Исключительный характер различия между друзьями и врагами, которое должно быть реализуемо посредством внеправовой суверенной диктатуры, чтобы обеспечить основу для нормального функционирования конституционного строя, ставит под сомнение демократический характер конституционной теории Шмитта (см. Kraft–Fuchs 1930; Vinx 2013a).
Неоднозначная позиция Шмитта по отношению к Веймарской системе в равной степени проявилась и в его интерпретации диктаторских полномочий президента Веймарской республики в соответствии со статьей 48 Конституции Веймарской Республики (Dyzenhaus 1997: 70–85; Vinx 2016). Частично приравнивая президента к суверенному диктатору, Шмитт защищал необычайно широкое толкование полномочий президента, которое фактически подчиняло все конституционные права дискреционному вмешательству исполнительной власти, возглавляемой президентом (см. DP). Либеральные права должны соблюдаться, поскольку немецкий народ решил создать либеральную конституцию, но только при условии обеспечения общественного порядка и безопасности.
По мнению Шмитта, личные свободы, даже в тех случаях, когда они гарантируются конституцией, должны рассматриваться как уступки государства в пользу индивида, поскольку они подлежат в конечном счете приостановлению посредством суверенного решения об исключении (CT 80–81, 156–158, 235–252). Кроме того, Шмитт яростно боролся против идеи о том, что обязанность по защите конституции должна быть возложена на конституционный суд. Конституционный суд должен либо ограничиться непротиворечивыми случаями, в которых конституционное право дает определенные ориентиры, либо взять на себя ответственность за определение политической идентичности народа. Но если бы суд взял на себя такую ответственность, то, по мнению Шмитта, это было бы равносильно незаконной узурпации конституционной власти народа, равно как и попытке осуществить фундаментальные конституционные изменения посредством формальной конституционной поправки (HV 12–48; TV 26–41).
Шмитт, по всей видимости, надеялся, что в годы относительной стабильности Веймарской республики президентской диктатуры в защиту существующей конституции будет достаточно, чтобы создать нормальные условия, которые позволят Веймарской республике функционировать. Однако эта надежда была утеряна во время окончательного кризиса Веймарской республики. Труды Шмитта во время этого кризиса стали заигрывать со взглядом, что президент должен попытаться взять на себя роль, гораздо более близкую к полной суверенной диктатуре, чем это позволила бы даже интерпретация 48 статьи Шмиттом, и осуществить авторитарную реформу позитивной конституции (LL 85–94). Этот проект потерпел неудачу, когда нацистам удалось захватить власть путем злоупотребления конституционными процедурами, о которых предупреждал Шмитт (Kennedy 2004: 154–83). После короткого периода колебаний Шмитт тем не менее предложил свои услуги в качестве юридического консультанта нацистам. Он осторожно подчеркнул, что приход национал-социалистов к власти, несмотря на его кажущуюся правовую форму, был настоящей революцией, с тем чтобы сохранить свою точку зрения о том, что конституция не может быть подвергнута фундаментальным изменениям посредством формальных поправок (SBV 5–9), но затем он быстро перевел свою теорию демократии на расистский язык нацистов (SBV 32–46) и начал отстаивать институционалистскую теорию права, которая должна была взять свое начало в аутентичной форме жизни немецкого народа (TJT 47–57, 89–95).
Сам Шмитт объяснил этот сдвиг как принципиальную переориентацию своего теоретико-правового подхода с перспективы «решения» на «конкретное мышление о порядке».
Сомнительно, однако, что термин «конкретный порядок» означал нечто большее, чем ситуацию нормальности, которую Шмитт всегда считал основой установленной законности. Его утверждение (или надежда) заключалось в том, что нацисты успешно восстановили нормальность (но см. Croce and Salvatore 2013: 11–76). Национал-социалистическое движение, по мнению Шмитта, сумело организовать порядок конституционной власти и создать новую конституцию, готовую провести бескомпромиссные различия между германским народом и его внутренними и внешними врагами. С учетом этого описания национал-социалистического движения, политическая и конституционная теория Шмитта, похоже, предполагает, что правление Гитлера было совершенно законным. Поэтому, судя по всему, нет необходимости утверждать радикальный разрыв между взглядами Шмитта до и после 1933 года (Dyzenhaus 1997: 82–101; Mauss 1998; Scheuerman 1999: 113–139; Hofmann 2002: 152–188).
Либеральный космополитизм и основы мирового порядка
Понятие политического Шмитта представляет собой своеобразную интерпретацию демократии и конституционализма во внутригосударственной сфере. Она привела Шмитта к столь же характерному изложению основ международной законности, которая в последние годы привлекает все большее внимание исследователей (Scheuerman 1999: 141–173; Scheuerman 2006; Odysseos and Petito 2007; Axtmann 2007; Hooker 2009; Slomp 2009; Legg 2011; Benhabib 2012; Neumann 2015: 419–492; Koskenniemi 2016; Hathaway and Shapiro 2017; Kalyvas 2018). Шмитт является верным защитником суверенитета, но он не принимает категорический отказ от международной законности. Скорее, Шмитт занят тем, чтобы очертить условия, при которых суверенные политические сообщества, обладающие различной политической идентичностью, могут сосуществовать в общем международном правовом порядке.
Два важных последствия для международной теории шмиттовского понятия политического очевидны. Во-первых, оно подразумевает, что каждое истинное политическое сообщество должно претендовать на неограниченное в правовом отношении ius ad bellum. Если различие между другом и врагом, составлявшее политическое существование группы, проводится не самой группой, а кем-то другим, или если решение о вступлении в войну в конкретной ситуации принимается уже не группой, а какой-то третьей стороной — будь то государство-гегемон, международная организация или международный суд, — группа больше не существует как независимое политическое сообщество (CP 321–330). Второе ключевое следствие понятия политического Шмитта для международной теории вытекает из утверждения, что политическое существование группы должно основываться на определенной идентичности, которая служит содержанием различия между друзьями и врагами.
Такая идентичность, разумеется, должна отличаться от идентичности любого другого политического сообщества, чтобы данная группа могла достичь своей собственной политической идентичности. Было бы невозможно обеспечить плюрализм политических сообществ — коль скоро политическое сообщество возможно только там, где у группы есть враги, — если бы существовала только одна законная форма социальной организации или общественной жизни (CP 330–335).
Эти два последствия понятия политического Шмитта подразумевают два условия легитимности международного порядка, по крайней мере, если вместе со Шмиттом исходить из того, что политические сообщества имеют безусловное право на сохранение своего существования (CP 324–325; CT 75–77). С учетом этого предположения, законный международный порядок должен быть способен учитывать плюрализм политических сообществ с различной политической идентичностью.
Более того, он должен признавать законным ius ad bellum, на которое претендуют все группы, успешно сформировавшиеся как политические сообщества.
Концепция международного порядка, нарушающая любое из этих двух условий, была бы несовместима с политическим существованием и поэтому была бы незаконной.
Эти требования в отношении законного международного порядка представляются рецептом анархии. Не лучше ли было бы Шмитту признать, что его позиция подразумевает отрицание международного правопорядка? Ответ Шмитта на это возражение двоякий. С одной стороны, он утверждает, что существует по крайней мере один исторический пример действующего международного порядка, который соответствовал его критериям легитимности. С другой стороны, Шмитт утверждает, что попытка подвергнуть применение силы со стороны политических сообществ внешним правовым ограничениям и контролю, помимо того, что это является посягательством на возможность политического существования, приведет лишь к большему беспорядку и насилию, чем мы можем ожидать от системы, признающей политическое.
Первый ответ Шмитта основан на интерпретации природы европейского политического порядка в период от создания современного суверенного государства до начала Первой мировой войны. По мнению Шмитта, этот период не был просто периодом анархии. Скорее, он характеризовался существованием публичного права, регулирующего отношения между европейскими государствами, ius publicum Europaeum (NE 165–286). Главной опорой ius publicum Europaeum было строгое разделение ius ad bellum и ius in bello. На уровне ius ad bellum все независимые государства были признаны обладателями права на ведение войны на основании собственного суждения о справедливости и необходимости. Правовой порядок ius publicum Europaeum, по сути, не проводил различия между справедливой и несправедливой войной. Скорее, обе стороны в конфликте между суверенными государствами по умолчанию были признаны законными противоборствующими сторонами (NE 165–216). Кроме того, поскольку оба государства в любом конфликте считались законными противоборствующими сторонами, государства, не участвовавшие непосредственно в конфликте, были признаны обладающими правом выбора: либо выбрать какую-либо из сторон, либо сохранить нейтралитет (DCW 53–74). Эти рамки, утверждает Шмитт, позволили европейским государствам эффективно сдерживать негативные последствия войны, а значит, и опасности для политического существования.
Свобода принимать сторону любого из участников конфликта или оставаться нейтральным позволила государствам сдерживать конфликты, сохраняя баланс или просто держась подальше от борьбы. Однако, самое главное, взаимное признание законной воинственности позволило эффективно применять строгие ограничения на допустимые средства ведения войны на уровне ius in bello. Согласно Шмитту, в период действия jus publicum Europaeum межгосударственная война проводила строгое различие между солдатами и гражданскими лицами и воздерживалась от использования таких методов ведения войны, которые могли бы поставить под угрозу жизнь или имущество гражданских лиц (NE 142–43, 165–8).
Это сдерживание войны, утверждает Шмитт, было основано на готовности поставить вопрос о справедливости в скобки на уровне ius ad bellum. Если кто-то считает, что война может быть легитимной с одной стороны, но нелегитимной с другой, он вынужден сделать вывод, утверждает Шмитт, что морально неправильно предоставлять статус законной воюющей стороны тем, кто считается воюющим, не имея на то справедливой причины, и столь же неправильно предполагать, что они должны пользоваться теми же правами, что и те, кто воюет по справедливости (NE 473–478; CP 330–335). Кроме того, как только будет проведено различие между легитимной и нелегитимной воинственностью, уже нельзя будет утверждать, что другие государства имеют право встать на сторону либо воюющей стороны, либо сохранять нейтралитет.
Скорее, третьи стороны будут считаться обязанными встать на сторону тех, кто ведет справедливую борьбу (DK 26–53). Отказ от идеи о том, что все участники войны между государствами являются в равной степени законными воюющими сторонами, заключает Шмитт, неизбежно подрывает сдерживание войны, достигнутое в ius publicum Europaeum (PB 286–290). Неудивительно, что Шмитт отверг проект создания международного правового порядка, основанного на «дискриминационной концепции войны», которая подчиняла бы применение силы со стороны суверенных государств материальным критериям моральной легитимности и внешнего правового контроля.
Он рассматривал такое развитие событий лишь в качестве усилий со стороны победивших западных союзников охарактеризовать любые насильственные попытки Германии пересмотреть итоги Первой мировой войны как незаконные и, следовательно, несправедливые, и выдать себе разрешение на применение средств принуждения и на использование методов ведения войны, которые считались бы незаконными в контексте взаимно легитимной воинственности (PB 184–203; NE 361–401). Шмитт утверждал, что международная легализация на основе модели справедливой теории войны не предотвратит грядущих войн. Она лишь сделает их более тотальными, поскольку побудит оппонентов рассматривать друг друга как абсолютных врагов, достойных уничтожения (NE 452–478; Brown 2007; Slomp 2009: 95–111).
Однако Шмитт признал, что эпоха ius publicum Europaeum подошла к концу после Первой мировой войны вместе с глобальной гегемонией классического европейского соглашения суверенных государств (GO 101–11). Поэтому Шмитт стремился оценить шансы на возникновение нового мирового порядка, аналогичного по структуре ius publicum Europaeum, и предпринял попытку в «Номосе Земли» разоблачить предположения о таком виде международного порядка, который демонстрирует ius publicum Europaeum. Для того чтобы группы, связанные враждой, могли сосуществовать в общих рамках, которые ограничивают последствия войны, взаимная вражда должна быть предотвращена до того, как она дойдет до уровня абсолютной вражды.
Вражда, даже если она может потребовать защиты собственного политического существования от врага, не должна требовать полного уничтожения политического и, возможно, физического существования врага.
Ius publicum Europaeum, по мнению Шмитта, сумело предотвратить абсолютную вражду путем согласования различий между друзьями и врагами с территориальными границами (Zarmanian 2006). Если формы жизни двух противоборствующих политических сообществ будут привязаны друг к другу и выражены на определенной территории, то эти две группы смогут, утверждает Шмитт, пространственно распределить различие между друзьями и врагами (NE 8–19). С точки зрения любой из двух групп, защита ее политического существования потребует от нее отражения любой попытки другой группы лишить ее территории. Но это не потребует от одной группы вмешательства или уничтожения политического существования другой группы, если они не являются необходимыми для защиты ее территории.
Все политические конфликты при таких обстоятельствах могут быть сведены к территориальным конфликтам, а это означает, что все конфликты могут в принципе сдерживаться до тех пор, пока существует возможность делить территорию таким образом, чтобы обе группы могли сохранить свою форму жизни (NE 171–178).
Для того чтобы политические конфликты могли быть сведены к территориальным конфликтам, противоборствующие политические сообщества, разумеется, должны принять принцип невмешательства во внутренние дела других политических сообществ. Сведение политического конфликта к территориальному конфликту было бы невозможно, если бы политическая лояльность распространялась между границами. Если некоторые из тех, кто разделяет нашу идентичность, положенную в основу нашей политической жизни, будут жить на территории, контролируемой другим политическим сообществом, то нам придется заботиться об их судьбе. Если мы увидим, что они угнетены этим другим сообществом, мы можем почувствовать, что вынуждены пойти на войну за них, даже если другое сообщество не нападало на нашу собственную территорию. Таким образом, для того чтобы провести территориальное различие между друзьями и врагами, необходимо обеспечить, чтобы те и только те люди, которые разделяют одну и ту же политическую идентичность, жили на одной и той же территории (GO 86–88, 96–101).
Вместе с тем некоторые политические идентичности не поддаются пространственной привязке к политическому. Сообщество, чья политическая идентичность основывается на поощрении либерально-гуманистических ценностей, которые, по их мнению, должны быть универсальными, должно задаваться вопросом, уважают ли другие политические сообщества эти ценности и готовы ли они вмешиваться, если они этого не делают. Она не может согласиться на сведение политического конфликта е территориальному, поскольку ее политическая идентичность претендует на то, чтобы быть неисключительной.
Таким образом, всемирный порядок по модели ius publicum Europaeum останется недостижимым, а всемирная гражданская война, характеризующаяся абсолютной враждебностью, будет неизбежна, заключает Шмитт, до тех пор, пока ведущие мировые державы будут привержены универсалистским идеологиям, подразумевающим отказ от пространственной локализации политического конфликта (GO 90–95; VA 375–385).
Как позднее отметил Шмитт в «Теории партизана», различие между абсолютной и сдерживаемой враждой приводит к различию между абсолютными, действительными и конвенциональными врагами (TP 130–135; см. также CP 311–312; Slomp 2009: 112–26). Конвенциональный враг — это враг в рамках установленной системы сдерживания, в то время как действительный враг — это враг, которого можно заставить (возможно, лишь только после конфликта) согласиться на территориальное разделение. Абсолютная вражда, напротив, существует там, где существует конфликт, который не поддается территориальному урегулированию.
По мнению Шмитта, именно те власти, которые по идеологическим соображениям отказываются принять пространственную локализацию конфликта, виноваты в абсолютной вражде и безостановочном насилии, которые она влечет за собой.
Те, кто являются действительными врагами, но необязательно должны быть абсолютными врагами, должны найти способ признать друг друга, разделить мир между собой, сдержать политические силы, которые должны отвергнуть территориальность политического конфликта.
Соответственно, в работе «Номос Земли» Шмитт изобразил взаимно признанное присвоение земного шара взаимно невмешивающимися, территориально основанными политическими сообществами как истинную основу всего законного международного (а, следовательно, и национального) правового порядка (NE 8–19, 46–72; GO 77–79; см. также Herrero 2015: 21–49). В нацистский период Шмитт применял эту точку зрения для оправдания нацистской агрессии, изображая нацистскую Германию местным гегемоном, готовым поддержать всемирное территориальное разделение на основе принципа невмешательства.
Шмитт надеялся, по крайней мере, на некоторое время, что Америка покажется «действительным врагом» Германии и что она будет готова к взаимному разделению сфер влияния. В этом смысле Шмитт интерпретировал доктрину Монро как первый акт гегемонистского присвоения сферы интересов, которая могла бы стать частью нового мирового порядка, если бы только Америка была готова позволить Германии навязать свою собственную доктрину Монро континентальной Европе (GO 83–90). До тех пор, пока они были успешными в военном отношении, Шмитт отмечал нацистские войны как рождение нового «Номоса Земли» (LS sec. 20).
Конечно, надежды Шмитта были обмануты, когда после катастрофического кровопролития война зашла в тупик с двумя гегемонистскими силами, которые не желали отказываться от универсалистской идеологии, но тем не менее вполне успешно предотвратили перерастание своего конфликта в открытую войну. Шмитт, однако, не поставил под сомнение свое утверждение о том, что международный порядок должен основываться на территориальном разделении. В кругах, в которых находился Шмитт, стало модно называть холодную войну «всемирной гражданской войной» (Müller 2003: 104–115), а Шмитт в «Теории партизана» выразил свое восхищение партизанами Мао и Хо Ши Мина за то, что они проявили «теллурический» характер и «верность земле», отвергнув при этом «идеологии мировой революции или [соображения] техницистской идеологии» (TP 36–38). Новый порядок должен был возникнуть в результате распределения поверхности земного шара между внутренне однородными государствами, привязанными к определенной земле.
Очевидно, что теория Шмитта о предпосылках международного порядка тесно связана с его мнением об условиях хорошо функционирующей внутренней законности (Vinx 2013b). Пространственная локализация конфликта требует наличия политических сообществ, достаточно сильных для обеспечения внутриполитической однородности. Однако политические сообщества вряд ли смогут обеспечить внутреннюю однородность, если им придется жить в международной среде, в которой отсутствует четкий пространственный порядок, поскольку она контролируется государствами, идеологически враждебными к пространственному урегулированию конфликта. Таким образом, законный внутренний порядок и законный международный порядок, по мнению Шмитта, являются двумя сторонами одной медали. Обе стороны требуют защиты политического, как его понимает Шмитт (Axtmann 2007).
Но предположение Шмитта, что сохранение политического в его понимании является необходимым условием легитимной внутренней и международной легальности, представляется довольно трудным для восприятия в свете катастрофического опыта ХХ века.
Шмитт был активным наблюдателем и аналитиком слабостей либерального конституционализма и либерального космополитизма. Но вне всяких сомнений, его любимое лекарство оказалось гораздо хуже, чем сама болезнь.
Библиография
Полную библиографическую информацию о творчестве Шмитта можно прочесть у Алена де Бенуа: De Benoist A. Carl Schmitt. Bibliographie seiner Schriften und Korrespondenzen. Berlin: Akademie Verlag, 2003.
В списке работ Шмитта дата в скобках указывает на год первой публикации на немецком языке или (в случае посмертно опубликованного материала) на год, в котором был написан соответствующий текст.
Работы Карла Шмитта
[GU] Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis (1912), München: C.H. Beck, 1969.
[WS] Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen (1914), Berlin: Duncker&Humblot, 2004.
[PR] Политический романтизм. М.: Праксис, 2015 [1919].
[D] Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. М.: Наука, 2005 [1921].
[PT] Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете [1922] // Понятие политического. СПб.: Наука, 2016. С. 5–59.
[RK] Römischer Katholizismus und politische Form (1923), Stuttgart: Klett-Cotta, 2008.
[CPD] The Crisis of Parliamentary Democracy (1923), trans. by E. Kennedy, Cambridge/MA: MIT Press, 1985.
[DP] “The Dictatorship of the President of the Reich according to Article 48 of the Weimar Constitution” (1924), in C. Schmitt, Dictatorship. From the Origin of the Modern Concept of Sovereignty to Proletarian Class Struggle, trans. by M. Hoelzl and G. Ward, Cambridge: Polity Press, 2014, pp. 180–226.
[VV] Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung der Weimarer Verfassung und zur Lehre von der unmittelbaren Demokratie (1927), Berlin: Duncker&Humblot, 2014.
[CT] Constitutional Theory (1928), trans. by J. Seitzer, Durham: Duke University Press, 2008.
[ND] “The Age of Neutralizations and Depoliticizations” (1929), in C. Schmitt, The Concept of the Political. Expanded Edition, trans. by G. Schwab, Chicago: University of Chicago Press, 2007, pp. 80–96.
[HV] Der Hüter der Verfassung (1931), Berlin: Duncker&Humblot, 1996. [A partial translation of this text is available in The Guardian of the Constitution. Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law , trans. by L. Vinx, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, pp. 79–173.]
[LL] Легальность и легитимность [1932] // Понятие политического. СПб.: Наука, 2016. С. 171–279.
[CP] Понятие политического [1932] // Понятие политического. СПб.: Наука, 2016. С. 280–408.
[SBV] Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit (1933), Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1933.
[TJT] On the Three Types of Juristic Thought (1934), trans. by J.W. Bendersky, Westport, CT: Praeger Publishers, 2004.
[SM] “The State as a Mechanism in Hobbes and Descartes” (1936/37), in C. Schmitt,The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes. Meaning and Failure of a Political Symbol, trans. by G. Schwab and E. Hilfstein, Chicago: University of Chicago Press, 2008, pp. 91–103.
[L] Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб.: Владимир Даль, 2006 [1938].
[DCW] The Turn to the Discriminating Concept of War (1938), in C. Schmitt, Writings on War, trans. by T. Nunan, Cambridge: Polity Press, 2011, pp. 30–74.
[PB] Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles 1923–1939 (1940), Berlin: Duncker&Humblot, 1988.
[GO] The Grossraum Order of International Law with a Ban on Intervention for Spatially Foreign Powers: A Contribution to the Concept of Reich in International Law (1941), in C. Schmitt, Writings on War, trans. by T. Nunan, Cambridge: Polity Press, 2011, pp. 75–124.
[LS] Land and Sea. A World-Historical Meditation (1942), trans. by S.G. Zeitlin, New York: Telos Press, 2015.
[IC] The International Crime of the War of Aggression and the Principle ‘Nullum crimen, nulla poena sine lege’ (1945), in C. Schmitt, Writings on War, trans. by T. Nunan, Cambridge: Polity Press, 2011, pp. 125–97.
[AN] Antworten in Nürnberg (1947), ed. by H. Quaritsch, Berlin: Duncker&Humblot, 2000.
[NE] Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб.: «Владимир Даль», 2008 [1950].
[ECS] Ex Captivitate Salus. Erfahrungen aus der Zeit 1945/47 (1950), Berlin: Duncker&Humblot, 2002.
[VA] Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre (1958), Berlin: Duncker&Humblot, 1958.
[TV] The Tyranny of Values and Other Texts (1960), trans. by S.G. Zeitlin, New York: Telos Press, 2018.
[TP] Теория партизана: Промежуточное замечание по поводу понятия политического. М.: Наука, 2006 [1963].
[VR] “Die vollendete Reformation. Zu neuen Leviathan-Interpretationen” (1965), Der Staat, 4 (1): 51–69.
Источники
• Антологии по Шмитту
• Arvidsson, M., Braennstroem L., and Minkkinen, P. (eds.), 2016, The Contemporary Relevance of Carl Schmitt. Law, Politics, Theology, Abingdon: Routledge.
• Dyzenhaus, D. (ed.), 1998, Law as Politics. Carl Schmitt’s Critique of Liberalism, Durham: Duke University Press.
• Legg, S. (ed.), 2011, Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt. Geographies of the Nomos, Abingdon: Routledge.
• Mehring, R. (ed.), 2003, Carl Schmitt Der Begriff des Politischen. Ein kooperativer Kommentar, Berlin: Akademie Verlag.
• Meierhenrich, J., and Simons, O. (eds.), 2016, The Oxford Handbook of Carl Schmitt, Oxford: Oxford University Press.
• Mouffe, C. (ed.), 1999a, The Challenge of Carl Schmitt, London: Verso.
• Odysseos, L., and F. Petito (eds.), 2007, The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order, Abingdon: Routledge.
• Tralau, J. (ed.), 2011, Thomas Hobbes and Carl Schmitt. The Politics of Order and Myth, Abingdon: Routledge.
• Избранные статьи и книги о Карле Шмитте
• Arato, A., 1995, “Forms of Constitution Making and Theories of Democracy,” Cardozo Law Review, 17 (2): 191–231.
• Axtmann, R., 2007, “Humanity or Enmity? Carl Schmitt on International Politics,” International Politics, 44 (5): 531–51.
• Balakrishnan, G., 2000, The Enemy. An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, London: Verso.
• Bendersky, J.W., 1983, Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Benhabib, S., 2012, “Carl Schmitt’s Critique of Kant: Sovereignty and International Law,” Political Theory, 40 (6): 688–713.
• Böckenförde, E.-W., 1998, “The Concept of the Political: A Key to Understanding Carl Schmitt’s Constitutional Theory,” in Law as Politics. Carl Schmitt’s Critique of Liberalism, D. Dyzenhaus (ed.), Durham: Duke University Press, pp. 37–55.
• Breuer, S., 2012, Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik, Berlin: Akademie Verlag.
• Brown, C., 2007, “From Humanized War to Humanitarian Intervention: Carl Schmitt’s Critique of the Just War Tradition,” in The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order, L. Odysseos and F. Petito (eds.), Abingdon: Routledge, pp. 56–69.
• Caldwell, P.C., 1997, Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law. The Theory and Practice of Weimar Constitutionalism, Durham: Duke University Press.
• –––, 2005, “Controversies over Carl Schmitt: A Review of Recent Literature,” The Journal of Modern History, 77 (2): 357–87.
• Colon-Rios, J., 2012, Weak Constitutionalism. Democratic Legitimacy and the Question of Constituent Power, Abingdon: Routledge.
• Conrad, D., 1999, “Limitation of Amendment Procedures and the Constituent Power,” in D. Conrad, Zwischen den Traditionen. Probleme des Verfassungsrechts und der Rechtskultur in Indien und Pakistan, ed. by J. Lütt and M.P. Singh, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, pp. 47–85.
• Cristi, R., 1998, Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism. Strong State, Free Economy, Cardiff: University of Wales Press.
• Croce, M. and Salvatore, A., 2013, The Legal Theory of Carl Schmitt, Abingdon: Routledge.
• Dyzenhaus, D., 1997, Legality and Legitimacy. Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar, Oxford: Oxford University Press.
• –––, 2006, The Constitution of Law. Legality in a Time of Emergency, Cambridge: Cambridge University Press.
• Ehmke, H., 1953, Grenzen der Verfassungsänderung, Berlin: Duncker & Humblot.
• Fox, G.H. and Nolte, G., 1995, “Intolerant Democracies,” Harvard International Law Journal, 36 (1): 1–70.
• Gottfried, P.E., 1990, Carl Schmitt. Politics and Theory, Westport, CT: Greenwood Press.
• Groh, R., 1998, Arbeit an der Heillosigkeit der Welt. Zur politisch-theologischen Mythologie und Anthropologie Carl Schmitts, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
• Gross, R., 2007, Carl Schmitt and the Jews: The “Jewish Question,” the Holocaust, and German Legal Theory, Madison: University of Wisconsin Press.
• Hathaway, O. and Shapiro, S., 2017, The Internationalists. How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World, New York: Simon & Schuster.
• Herrero, M., 2015, The Political Discourse of Carl Schmitt. A Mystic of Order, Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
• Hofmann, H., 2002, Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Berlin: Duncker & Humblot.
• Holmes, S., 1993, The Anatomy of Antiliberalism, Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Hooker, W., 2009, Carl Schmitt’s International Thought. Order and Orientation, Cambridge: Cambridge University Press.
• Kahn, P.W., 2011, Political Theology. Four New Chapters on the Concept of Sovereignty, New York: Columbia University Press.
• Kalyvas, A., 2008, Democracy and the Politics of the Extraordinary. Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt, Cambridge: Cambridge University Press.
• –––, 2018, “Carl Schmitt’s Postcolonial Imagination,” Constellations, 25 (1): 35–53.
• Kaufmann, M., 1988, Recht ohne Regel? Die philosophischen Prinzipien in Carl Schmitt’s Staats- und Rechtslehre, Freiburg: Karl Alber.
• Kelly, D., 2016, “Carl Schmitt’s Political Theory of Dictatorship”, in The Oxford Handbook of Carl Schmitt, J. Meierhenrich and O. Simons (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 217–244.
• Kennedy, E., 2004, Constitutional Failure. Carl Schmitt in Weimar, Durham: Duke University Press.
• Kervégan, J.-F., 1992, Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité, Paris: Presses Universitaires de France.
• Kraft-Fuchs, M., 1930, “Prinzipielle Bemerkungen zu Carl Schmitt’s Verfassungslehre,” Zeitschrift für öffentliches Recht, 9: 510–41.
• Lindahl, H., 2007, “Constituent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood,” in The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form, M. Loughlin and N. Walker (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 9–24.
• Löwith, K., 1995, “The Occasional Decisionism of Carl Schmitt,” in K. Löwith, Martin Heidegger and European Nihilism, R. Wolin (ed.) and G. Steiner (trans.), New York: Columbia University Press, pp. 37–69.
• Loughlin, M., 2012, Foundations of Public Law, Oxford: Oxford University Press.
• Mauss, I., 1980, Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus. Zur sozialen Funktion und aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts, München: Wilhelm Fink.
• –––, 1998, “The 1933 Break in Carl Schmitt’s Theory,” in Law as Politics. Carl Schmitt’s Critique of Liberalism, D. Dyzenhaus (ed.), Durham: Duke University Press, pp. 198–216.
• McCormick, J.P., 1994, “Fear, Technology, and the State: Carl Schmitt, Leo Strauss, and the Revival of Hobbes in Weimar and National Socialist Germany,” Political Theory, 22 (4): 619–52.
• –––, 1997, Carl Schmitt’s Critique of Liberalism. Against Politics as Technology, Cambridge: Cambridge University Press.
• Mehring, R., 1989, Pathetisches Denken. Carl Schmitts Denkweg am Leitfaden Hegels: Katholische Grundstellung und antimarxistische Hegelstrategie, Berlin: Duncker&Humblot.
• –––, 2009, Carl Schmitt: Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München: C.H. Beck.
• Meier, H., 1998, The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy, Chicago: University of Chicago Press.
• –––, 2006, Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue, Chicago: University of Chicago Press.
• Minkkinen, P., 2013, “Political Constitutionalism versus Political Constitutional Theory: Law, Power and Politics,” International Journal of Constitutional Law, 11 (3): 585–610.
• Mouffe, C., 1999b, “Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy,” in The Challenge of Carl Schmitt, C. Mouffe (ed.), London: Verso.
• Müller, J.-W., 2003, A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven: Yale University Press.
• Neumann, V., 2015, Carl Schmitt als Jurist, Tübingen: Mohr Siebeck.
• Norris, A., 2007, “Sovereignty, Exception, and Norm,” Journal of Law and Society, 34 (1): 31–45.
• Posner, E. and Vermeule, A., 2010, The Executive Unbound. After the Madisonian Republic, New York: Oxford University Press.
• Preuss, U.K., 2016, “Carl Schmitt and the Weimar Constitution”, in The Oxford Handbook of Carl Schmitt, J. Meierhenrich and O. Simons (eds.), Oxford: Oxford University Press pp. 471–489.
• Rüthers, B., 1990, Carl Schmitt im Dritten Reich: Wissenschaft als Zeitgeistverstärkung?, München: C.H. Beck.
• Sartori, G., 1989, “The Essence of the Political in Carl Schmitt,” Journal of Theoretical Politics, 1 (1): 63–75.
• Scheuerman, W.E, 1996, “Legal Indeterminacy and the Origins of Nazi Legal Thought: The Case of Carl Schmitt,” History of Political Thought, 17 (4): 571–590.
• –––, 1999, Carl Schmitt. The End of Law, Lanham: Rowman & Littlefield.
• –––, 2006, “Carl Schmitt and the Road to Abu Ghraib,” Constellations, 13 (1): 108–24.
• Schupmann, B.A., 2017, Carl Schmitt’s State and Constitutional Theory. A Critical Analysis, Oxford: Oxford University Press.
• Schwab, G., 1989, The Challenge of the Exception. An Introduction to the Political Ideas of Carl Schmitt between 1921 and 1936, Westport, CT: Greenwood Press.
• Slomp, G., 2009, Carl Schmitt and the Politics of Hostility, Violence, and Terror, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
• Strauss, L., 2007, “Notes on Carl Schmitt, The Concept of the Political,” trans. H.J. Lomax, in C. Schmitt, The Concept of the Political. Expanded Edition, trans. George Schwab, Chicago: University of Chicago Press, pp. 97–122.
• Van Laak, D., 2002, Gespräche in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin: Akademie Verlag.
• Vatter, M., 2016, “The Political Theology of Carl Schmitt”, in The Oxford Handbook of Carl Schmitt, J. Meierhenrich and O. Simons (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 245–268.
• Vinx, L., 2013a, “The Incoherence of Strong Popular Sovereignty,” International Journal of Constitutional Law, 11 (1): 101–24.
• –––, 2013b, “Carl Schmitt and the Analogy between Constitutional and International Law: Are Constitutional and International Law Inherently Political?,” Global Constitutionalism, 2 (1): 91–124.
• –––, 2015, “Carl Schmitt’s Defence of Sovereignty”, in Law, Liberty, and State. Oakeshott, Hayek and Schmitt on the Rule of Law, D. Dyzenhaus and T. Poole (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 96–121.
• –––, 2016, “Carl Schmitt and the Problem of Constitutional Guardianship”, in The Contemporary Relevance of Carl Schmitt, M. Arvidsson, L. Brännström, and P. Minkkinen (eds.), Abington: Routledge, pp. 34–49.
• Wolin, R., 1992, “The Conservative Revolutionary Habitus and the Aesthetics of Horror,” Political Theory, 20 (3): 424–47.
• Zarmanian, T., 2006, “Carl Schmitt and the Problem of Legal Order: From Domestic to International,” Leiden Journal of International Law, 19 (1): 41–67.





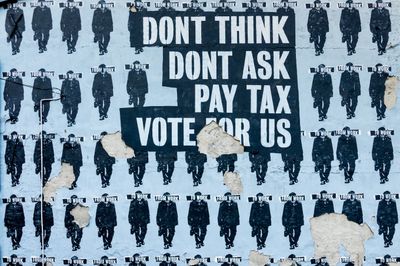

.jpg)
.jpg)
.jpg)




