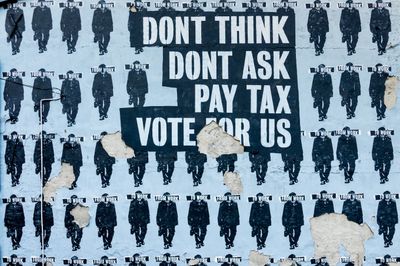Подлинность
Термин «подлинность» используется либо в строгом смысле как «нечто, чье происхождение или авторство бесспорны», либо менее строго в значении «соответствовать оригиналу» или «быть его правильной, точной репрезентацией». Назвать что-то подлинным — значит сказать, что нечто соответствует тому, за что себя выдает, или тому, что предполагается, — по своему происхождению или авторству. Но провести различие между подлинным и производным становится сложнее, когда речь заходит о подлинности как о характеристике, свойственной человеку.
Вопросом в этом случае будет: что значит быть собой, в ладу с собой или действительно представлять самого себя? Множество трудностей, возникающих в связи с концепцией подлинности, отсылает нас к метафизическим, эпистемологическим и моральным вопросам.
С одной стороны, быть собой — нечто неизбежное, поскольку, когда кто-либо выбирает или действует, именно он или она совершает эти действия.
Но, с другой стороны, иногда мы склонны говорить, что некоторые из принятых нами решений, действий и мыслей не совсем наши, и, следовательно, они не служат настоящим выражением нас. Здесь вопрос о подлинности становится проблемой не метафизического, а скорее морально-психологического характера, вопросом идентичности и ответственности.
В последнем случае понятие подлинности относится к личности, которая действует в соответствии с желаниями, мотивами, идеалами или убеждениями, которые не только принадлежат ей (как противоположные тем, что принадлежат другим), но и выражают то, что она есть на самом деле.
Это отмечает Бернард Уильямс, когда определяет подлинность как «идею того, что некоторые вещи — это в каком-то смысле и есть ты или выражают то, что есть ты, а другие нет» (Guignon 2004: viii).
Помимо того, что подлинность становится предметом философских дискуссий, она также выступает распространенным идеалом, затрагивающим общественную и политическую мысль. Фактически одной из выдающихся черт интеллектуальных разработок Запада недавнего времени стал сдвиг в сторону так называемого «века подлинности» (Taylor 2007; Ferrarra 1998).
Таким образом, разобраться с данным понятием — значит также изучить его исторические и философские истоки и пути его влияния на социально-политическое мировоззрение современных обществ.
Истоки и значения понятия подлинности
Искренность и подлинность
Ряд значительных культурных изменений в XVII и XVIII веках привел к появлению нового идеала в западном мире (Trilling 1972). В течение этого периода человека стали понимать более как индивида, нежели как того, кто занимает место в системе общественных отношений. Этот акцент на роли индивида можно проследить в широком распространении автобиографий и автопортретов, где индивид становится центром внимания не в силу выдающихся подвигов или обладания особым знанием, но поскольку он или она — индивид.
В тот же период общество начинает пониматься не как органическое целое, состоящее из взаимодействующих частей, а как совокупность отдельных человеческих существ — как социальная система со своей жизнью, которая предстает перед индивидом как нечто не совсем человеческое, будучи скорее чем-то искусственным, результатом «общественного договора». «Быть человеком» понимается как быть особенным, единственным в своем роде, даже когда это противоречит определенным социальным нормам. В то же время растет сознание того, что Чарльз Тейлор (Taylor 1989) называет «интериорностью» (inwardness) или «внутренним пространством». Результатом станет различение между личной и неповторимой индивидуальностью и публичным Я (Taylor 1991; Trilling 1972).
Вместе с этими социальными переменами происходит сдвиг в концепциях одобрения и неодобрения, часто используемых в вынесении суждений относительно других и себя самого. Например, устаревают такие понятия, как искренность и честь (Berger 1970). В прежние времена искренним считался тот человек, который честно пытался не нарушить ожидания, вытекающие из его общественного положения, и не стремился казаться иным, нежели он есть. Однако ко времени Гегеля идеал искренности утратил свою нормативную силу.
Гегель полемически именует искренность «героизмом безмолвного служения» (Гегель 2000 [1807]: 216) и обрушивается с критикой на буржуазного «честного человека», пассивно усваивающего определенный конвенциональный общественный этос. В условиях искренности индивид некритично подчинен власти общества — конформность, которая, согласно Гегелю, ведет к подчинению и упадку индивидуального (Гегель 2000 [1807]; Golomb 1995: 9; Trilling 1972).
Согласно Гегелю, по мере движения «духа» индивидуальное сознание со временем перейдет от условий искренности к условиям низости, в которых индивид становится антагонистичным внешним социальным силам и достигает определенной степени автономии. Гегель это ясно показывает в комментарии к «Племяннику Рамо» Дидро — истории, в которой рассказчик (предположительно, сам Дидро) изображен как рассудительный и чистосердечный человек, который уважает действующий порядок и достиг буржуазной респектабельности. В противоположность ему племянник полон презрения к обществу, в котором он слывет за никчемного человека.
Тем не менее он стоит в оппозиции и к самому себе, все еще стремясь к лучшему положению в обществе, которое — как он считает — не может предложить ничего, кроме пустоты (Despland 1975: 360; Golomb 1995: 13–15). Для Гегеля рассказчик являет образец искренности, честной души, в то время как сознание племянника представлено как «расколотое», отчужденное. Очевидно, что племянник отчужден, однако для Гегеля эта отчужденность является прогрессивным шагом к автономному бытию (Williams 2002: 190).
В череде этих концептуальных перемен понятие «подлинности» стало применяться для обозначения некоего нового набора добродетелей. Прежнее понятие искренности, означавшее честность по отношению к другим, заменяется относительно новым понятием подлинности, понимаемым как правдивость перед собой ради своего же блага. Ранее моральный совет быть подлинным подразумевал, что каждому стоит быть честным перед самим собой, посредством чего он будет честен и перед другими. Так, правдивость лично перед собой рассматривалась как средство построения успешных социальных отношений. Наоборот, сегодня мы понимаем подлинность — в качестве добродетели — как некий способ действовать, благой сам по себе (Ferrara 1993; Varga 2011a; Varga 2011b).
Автономия и подлинность
Все более частое обращение к подлинности привело к возникновению влиятельной современной «этики подлинности» (Ferrara 1993). Эта этика признает ценность господствующей «этики автономии», формирующей современное моральное мышление (Schneewind 1998; Dworkin 1988).
Идея автономии ставит акцент на способностях индивида управлять собой, не зависеть в своих суждениях от манипуляций и способности решать за самого себя. Данная идея связана с воззрением, в соответствии с которым моральные принципы и легитимность политической власти должны основываться на управляющем собой индивиде, который свободен от давления культуры и общества.
В соответствии с этикой автономии, каждый должен следовать тем нормам, которые он или она может пожелать на основании рационального и рефлексивного одобрения. В каком-то смысле подлинность и автономия согласуются в том положении, что каждый должен бороться за возможность жить в соответствии со своим разумом и мотивами, полагаясь на свою способность следовать установленным для самого себя принципам. В обоих случаях крайне важно, чтобы каждый мог рефлексивно контролировать свое поведение и основывать его на целях, которые каждый для себя самостоятельно избрал (Honneth 1994).
Важное различие состоит в том, что этика подлинности предполагает идею, что есть мотивы, желания и обязательства, которые порой должны перевешивать ограничения рациональной рефлексии.
Причина в том, что эти мотивы столь фундаментальны для сохранения целостности чьей-либо идентичности, что подавить их значило бы разрушить Я как таковое, а наличие Я, в свою очередь, необходимо для того, чтобы быть моральным агентом. Смысл в том, что есть типы моральных философских рассуждений, которые могут носить репрессивный характер, если исходят из «автономной моральной совести, не дополненной равновесием идентичности и подлинностью» (Ferrara 1993: 102).
Кроме ведения автономной жизни, направляемой личными неограниченными основаниями и мотивами, подлинность требует, чтобы эти основания и мотивы выражали самоидентичность человека. Подлинность заставляет морального агента следовать лишь тем «моральным источникам вне субъекта… [говорящим на языке], который резонирует с тем, что есть внутри него или нее»: другими словами, с источниками морали, которые соответствуют порядку, «неразрывно связанному с личным видением» (Taylor 1989: 510). Таким образом, подлинность подразумевает то, что лежит вне поля автономии, а именно «язык личностного резонанса» (Taylor 1991: 90). Это указывает на разрыв между (кантианской) автономией и подлинностью: некто может вести автономную жизнь, даже если такая жизнь не способна выразить его самопонимание.
В целом идеал подлинности не отвергает важности самозаконодательства, но расходится с ним в положении, что полнота свободы состоит в установлении такого закона и следовании ему (Menke 2005: 308). Речь идет не только о том, чтобы быть соавтором этого закона, но и о встраивании подобного закона во всю целостность жизни личности и о том, способствует ли он ее самовыражению и если да, то каким образом. В этом смысле идея автономии представляет собой противоположность этике, целиком сосредоточенной на строгом следовании социальным нормам.
Подлинность и самость
Другой решающий фактор в развитии идеала подлинности состоял в том, что он родился вместе с присущей именно Новому времени концепцией самости или Я.
Это видно в работах Руссо, утверждавшего, что источник, который направляет нашу жизнь и который должен руководить нашим поведением, должен располагаться внутри нас. Мы приходим к вопросам об интериорности, саморефлексии и интроспекции, многие из которых были поставлены им в «Исповеди» (1770).
Когда интериорность становится руководящим принципом, индивид должен опознавать и различать главные импульсы, чувства и чаяния от второстепенных или конфликтующих с его центральными мотивами. Другими словами, интериорность должна разделяться на центр и периферию. В рамках такого представления действия индивида будут оцениваться сообразно тому, исходят ли они от более значимых аспектов его идентичности и выражают ли они их или же исходят из периферии.
В такой концепции Я обнаруживаются значительные сходства с традицией «религиозного индивидуализма», ставящего в центр религиозной жизни индивида и подчеркивающего важную роль внутреннего мира и интроспективного рассмотрения своих мотивов, интенций и совести. Исследуя особенности нововременного субъекта с его интериорностью, Фуко пишет, что «нам кажется, что истина, которая располагается в самом потаенном месте нас самих, только того и „требует“, чтобы выйти на свет» (1996: 158).
Для Фуко исповедь — то есть взгляд вовнутрь, отслеживающий свою внутреннюю жизнь и рассказывающий некоторую «истину» о себе — стала частью культурной жизни, начиная с религии и заканчивая психотерапией. Радикализация различия между истинной и ложной интериорностью привела к новым возможностям; внутренние состояния, мотивы и чувства теперь все чаще рассматриваются в различных контекстах как объективируемые и податливые.
Но, кроме того, в «Рассуждениях о происхождении и основаниях неравенства среди людей» Руссо утверждает, что в условиях становления конкурентной публичной сферы возможности обращения вовнутрь значительно уменьшаются, поскольку конкурентные отношения требуют усиленно исполнять свои роли, что Руссо называет «непомерным трудом» (Руссо 1992 [1754]). Длительное инструментальное исполнение ролей порождает не только отчуждение, но и в конечном счете неравенство и несправедливость, поскольку оно уничтожает имманентное моральное понимание, с которым, согласно Руссо, человек спаян.
Критика подлинности
Идея автономии — предполагающая, что каждый индивид должен решать, как ему действовать, на основании его или ее собственного рационального суждения — во многом проложила путь идеи подлинности.
Тем не менее подлинность выходит за пределы автономии, поскольку предполагает, что чувства и глубочайшие желания индивида могут перевешивать следствия и рационально взвешенных решений, и нашу готовность следовать господствующим общественным нормам и ценностям.
Хотя искренность в целом согласуется с принятием данного общественного порядка, подлинность становится имплицитно критическим концептом, который, как правило, ставит под вопрос установленный порядок и общественное мнение. В руссоистской оптике одним из важнейших проектов является отстранение от социального, цель которого — выявить наше подлинное Я, скрытое под маской, которое заставляет нас носить общество.
Но когда подлинность понимается как нечто подобное искренности ради самой себя (Ferrara 1993: 86), становится значительно сложнее увидеть, в чем состоит то моральное благо, которое подлинность призвана реализовать.
Проблема, часто всплывающая в связи с идеалом подлинности, состоит в том, что концентрация на своих собственных чувствах и установках может порождать эгоистичную озабоченность собой, которая будет антисоциальной и разрушительной для альтруизма и сострадания к другим.
Кристофер Лэш (Lasch 1979) отмечает сходства между клиническим расстройством, именуемым нарциссическим расстройством личности, и подлинностью.
Как пишет Лэш, и нарциссизму, и подлинности свойственны слабая способность к эмпатии, потакание себе и самоуверенное поведение.
Подобным образом Алан Блум говорит, что культура подлинности сделала молодые умы «плоскими и усредненными» (Bloom 1987: 61), ведя к эгоцентризму и уничтожая публичное Я.
В то время как Лэш и Блум, поднимая вопросы о присущих «культуре подлинности» угрозах эгоцентризма и нарциссизма, обращаются к морали и политической последовательности, Дэниел Белл выражает беспокойство по поводу ее экономической жизнеспособности. Чего опасается Белл, так этого того, что «мегаломания самости, стремящейся к бесконечности», порождаемая культурой подлинности, уничтожит основания рыночных механизмов, «основанных на моральной системе поощрения, уходящей корнями в протестантское освящение труда» (Bell 1976: 84).
Впрочем, можно возразить, что это становится проблемой, только если понимать подлинность как личную добродетель. Другими словами, диссонанс между моралью, общественной жизнью и жизнью подлинной возникнет только в том случае, если мы полагаем, что «истинное» Я фундаментальным образом склонно к антисоциальному поведению. Но в то время многие мыслители понимали человеческую природу как принципиально расположенную к благодетельности, так что источник зла они усматривали, скорее, в социализации и воспитании, чем в глубинах человеческого существа.
Например, Руссо считает, что некоторые аморальные черты имманентны человеку, однако они были порождены динамикой современного общества, которое отмечено духом конкуренции и борьбой за признание в публичной сфере. Руссо, таким образом, располагает источники социального зла и отчуждения вне подлинной человеческой природы. Неискаженное самовосприятие естественного человека побуждает его к сочувствию и внимательности к другим, показывает ему, «что любое живое существо, особенно наши собратья, погибают или страдают, в основном такие же, как мы» (Руссо 1992 [1754]).
В подобном ключе теоретики-экономисты того же времени полагали, что свободные рынки саморегулируются так же, как люди естественным образом склонны вступать во взаимовыгодные отношения (Taylor 2007: 221–269). С этой точки зрения подлинность не сводится к эгоизму или замкнутости на себе.
С другой стороны, похоже, что преобладающим было воззрение, что посредством обращения вовнутрь и достижения «подлинного» себя человек сильнее вовлекается в социальный мир. По этой причине Тэйлор (Taylor 1989: 419–455) описывает траекторию проекта подлинности как «вовнутрь и ввысь».
Можно возразить, что было бы глубоко ошибочно полагать, будто «внутреннее» является морально надежным проводником, и что такое допущение строится на излишне оптимистичном понимании человеческой природы. Мы могли бы сказать, что идея рационального обсуждения, утвердившись, делает очевидным сильное влияние нерационального.
Такие мыслители, как Ницше и Фрейд, ставили под вопрос концепцию благой человеческой природы и в особенности «внутренней» природы. Согласно их «герменевтике подозрения» (Ricoeur 1970), человеческая природа содержит в себе нечто насильственное, беспорядочное и неразумное, равно как и стремление к благодеянию и альтруизму.
В таком случае любая идея этики, основанная преимущественно на идеале подлинности, будет просто-напросто несостоятельной.
Иные авторы выражали серьезные опасения не относительно оптимистичных взглядов на природу человека, но концепции самости, которая подчеркивает идею подлинности.
Некоторые утверждают, что дихотомии, на которых строится понятие подлинности, — такие как конформизм и независимость, индивидуальное и общее, направленность вовнутрь и направленность наружу, — полностью ошибочны. Лежащая здесь предпосылка, что индивидуальное отделено от своей среды, абсурдна и размывает связь между индивидуальным и частным, которая и является источником подлинного Я (Slater 1970: 15; Sisk 1973).
Соглашаясь со Слатером (Slater 1970) и Янкеловичем (Yankelovich 1981), Бэлла и др. (Bellah et al. 1985) и Фэрли (Fairlie 1978) считали, что стремление к подлинности противоречит самому себе, поскольку с потерей связи с обществом ослабевает и чувство Я.
Вдобавок к этому в «Жаргоне подлинности» Адорно заключает, что «литургия интериорности» основана на зыбкой идее самопрозрачного индивида, который способен выбирать себя (Адорно 2011 [1973]: 80).
Сомнительная картина сконцентрированного на себе индивида скрывает основополагающую инаковость и миметическую природу самости. В заключении «Слов и вещей» Фуко утверждает, что современное общество переживает кризис не только подлинности, но и идеи субъекта в целом в ее исторически случайном устройстве, предвидя, что «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» (Фуко 1994: 404).
Фуко прямо выступает против идеи потаенного подлинного Я, которую критично называет «калифорнийским культом личности» (Foucault 1983: 266). Признание того, что субъект не дан самому себе, приводит его к практическому выводу о создании себя как произведения искусства (Foucault 1983: 392). Чем искать подлинного сокрытого себя, лучше попытаться формировать собственную жизнь как произведение искусства, не обращаясь при этом к каким-либо фиксированным правилам или извечным истинам в процессе непрекращающегося становления (Foucault 1988: 49).
В похожем ключе Ричард Рорти утверждал, что идея «знать истину, быть в соприкосновении с тем, что „там, вовне“» (Рорти 1996: 51) — просто миф. Постмодерн ставит под вопрос существование некоего подлежащего субъекта с сущностными качествами, доступными путем интроспекции. Вся идея подлинности как того, что «изначально», «сущностно», «собственно» и т.п., теперь представляется сомнительной. Если мы суть конституирующие сами себя существа, которые создают себя от одного момента к другому, представляется, что понятие «подлинности» может указывать лишь на то, что ощущается как правильное в какой-то конкретный момент.
Другие же основывали свою критику подлинности в большей степени на появлении перверсивной «культуры подлинности».
Критики культуры утверждали, что очевидный «закат» общества модерна может быть главным образом не результатом экономических или структурных трансформаций, но следствием становящегося все более вездесущим идеала подлинности. Прежде, чем мы обратимся к этим критикам, будет полезно понять, как идеал подлинности стал столь распространенным. Во-первых, нам стоит упомянуть тот вклад в популяризацию идеи подлинности, который внесли работы Руссо. В частности, невероятно влиятельным был роман «Новая Элоиза» (1761), выдержавший по меньшей мере 70 переизданий до 1800 года (Darnton 1984: 242). В дальнейшем это проникновение идеала подлинности в популярную культуру основывалось на нескольких факторах.
Например, идею подлинности разделяло много интеллектуалов XIX столетия и начала XX века. Более того, они сделали ее еще радикальнее, сопротивляясь установившимся порядкам и публично отстаивая альтернативный, «артистический» или «богемный» стиль жизни.
Рецепция работ Сартра и Хайдеггера наверняка способствовала распространению и популяризации идеи подлинности, и значительные плоды этой идеи впервые дали о себе знать после Второй мировой войны (Taylor 2007: 475). Россинов считает, что политика 1960-х была сосредоточена на вопросах подлинности.
Согласно такой интерпретации, главным двигательным стимулом к политическим и общественным переменам движения «новых левых» в 1960-е был «поиск подлинности в индустриальной американской жизни» (Rossinow 1998: 345). Д. Фарелл (Farrell 1997) и Россинов пишут, что возникновение «новых левых» отчасти связано с реакцией на традиционный американский либерализм и христианский экзистенциализм, с заменой негативного понятия «греха» на понятие «отчуждения», а позитивной цели «спасения» — на «подлинность».
Столкнувшись с тем, что они понимали как отчуждение, которое «касается не только бедняков» (Rossinow 1998: 194), активизм «новых левых» перешел от гражданских прав к правам моральным и попытался вернуть смысл личной целостности и подлинности путем оздоровления институтов американского общества.
Возникающая молодежная культура определялась сильной неудовлетворенностью «трясиной конформизма», порожденной поколением их родителей (Gray 1965: 57). Критика растущего конформизма стала более настойчивой в 1950-е, ряд социальных исследователей в своих широко обсуждаемых книгах критиковали то, что виделось им повсеместных конформизм неподлинность. Некоторые из этих книг — «Одинокая толпа» (1950) Рисмэна и «Человек организации» (1956) Уайта — привлекли больше всего внимания. Рисмэн отмечает, что эффективное функционирование современных организаций требует ориентированных друг на друга индивидов, которые мягко адаптируются к своей среде.
Тем не менее он также отмечает, что подобные люди компрометируют себя, и общество, состоящее преимущественно из ориентированных друг на друга индивидов, сталкивается со значительной нехваткой лидерства и человеческого потенциала.
На фоне этого разворачивания кажется, что во время, когда преодолеть релятивизм становится трудно, подлинность представляется последней мерой ценности и расходной валютой современной культурной жизни (Jay 2004).
Так, под влиянием экзистенциализма на западную культуру вездесущее желание подлинности возникло в модерном обществе как «один из наиболее взрывных политических импульсов», как сказал Маршалл Берман (Berman 1970: xix).
Концепции подлинности
Кьеркегор и Хайдеггер
Работы Кьеркегора о подлинности и его предложение каждому становиться «тем, чем человек и так является» (2005 [1846]: 154), лучше всего следует понимать в связи с критикой определенной социальной реальности и определенного эссенциалистского направления в философии и науке.
С одной стороны, он (Kierkegaard 1962 [1846]) порицал черты жизни современного ему мира, заявляя, что люди стали функционировать как всего лишь исполнители в обществе, которое непрестанно опускает уровень возможностей к самому низкому общему знаменателю.
Переводя на более современный язык, можно сказать, что Кьеркегор критиковал модерное общество за то, что оно порождает «неподлинность».
Жизнь в обществе, отмеченном подобной «массификацией», ведет к тому, что он называет «отчаянием», которое проявляет себя в бездуховности, отрицании и неповиновении.
С другой стороны, он отвергал взгляд на человека как на объект, субстанцию, наделенную неотъемлемыми атрибутами. Чем быть одной вещью среди прочих, Кьеркегор предлагает понимать Я в терминах отношения: «Я это отношение, относящее себя к себе самому» (Кьеркегор 2010 [1849]: 292).
Это отношение состоит в развертывающемся проекте принятия того, с чем мы находим себя как существа в мире, и в наделении нашего жизненного пути неким значением или конкретной идентичностью.
Так, Я определяется конкретными выражениями, посредством которых человек проявляет себя и тем самым производит собственную идентичность во времени.
По мнению Кьеркегора, «становление тем, что ты есть» и избегание отчаяния и пустоты — дело не уединенной интроспекции, а скорее страстной приверженности к чему-то вне себя, что способно даровать жизни смысл. Для Кьеркегора как религиозного мыслителя этой высшей приверженностью была его определяющая связь с Богом. Страстная забота о чем-то, лежащем вне нас, дает диахроническую цельность нашей жизни и лежит в основании цельного повествования о самом себе (Davenport 2012).
В хайдеггеровской концепции человеческого существования (или, как он его называет, вот-бытия, или присутствия, Dasein) слышны отзвуки кьеркегоровской концепции Я.
Dasein есть скорее «отношение бытия», чем объект среди прочих (Seinsverhältnis; Хайдеггер 2003 [1927]: 71) — отношение, которое существует между тем, что некто являет собой в любой момент, и тем, что он может быть и чем станет в качестве темпорального разворачивания жизни в сферу возможностей. Реляционный характер Dasein означает, что, проживая свою жизнь, мы всегда уже охвачены заботой: в бытии каждого из нас на кон поставлено само бытие.
Это конкретизируется в особенных действиях, которые мы предпринимаем, и разыгрываемых нами ролях. На протяжении всей нашей жизни наша идентичность находится под вопросом: мы всегда есть проекция в будущее, мы все время определяем, кем мы являемся.
Наиболее известную концепцию «подлинности» предложил Хайдеггер в своей книге 1927 года «Бытие и время».
Слово, переводимое нами как «подлинность», в действительности является изобретенным Хайдеггером неологизмом, Eigentlichkeit, производным от однокоренного eigentlich, означающего «реально» или «истинно», но построенного на основе eigen, что значит «собственный».
Так что это слово можно более буквально перевести как «собственность», «собственный» или даже «принадлежащий кому-то», подразумевая под этим идею присвоения и владения тем, каков есть некто и что он делает. Тем не менее из-за ранних переводов «Бытия и времени» на английский слово «подлинность» (authenticity) стало плотно ассоциироваться с Хайдеггером и было перенято Сартром и Бовуар, как и последовавшими за ними представителями экзистенциальной терапии и теоретиками культуры.
Хайдеггеровская концепция самоприсвоенности как наиболее полно реализованной формы человеческой жизни происходит от его понимания того, что значит быть человеком. Эта концепция человеческого Dasein отсылает к кьеркегоровскому описанию Я.
По Хайдеггеру, Dasein не есть тип объектов среди прочих в тотальности всего подручного во вселенной. Наоборот, человек есть «отношения бытия», отношение между тем, что есть некто в любой момент (непосредственное конкретное настоящее, как оно стало), и тем, чем он может быть и будет как временное разворачивание или сбывание жизни в открытой сфере возможностей.
Сказать, что человек есть отношение, значит сказать, что в проживании нашей жизни мы всегда заботимся о том, кто и что мы есть.
Это имеет в виду Хайдеггер, говоря, что наше бытие (к чему сводится наша жизнь в целом) всегда на кону. Такое «быть на кону» или «быть вопросом для самого себя» конкретизируется в позициях, которые мы занимаем — то есть в ролях, которые мы принимаем — по ходу нашей жизни. Наше бытие (наша идентичность) под вопросом для нас оттого, что мы всегда занимаем позицию относительно того, кто мы есть.
Поскольку этимологическое происхождение немецкого слова «понимание», Verstehen, восходит к идее занятия позиции, Хайдеггер может назвать проецирование или набросок в будущее, посредством которого мы формируем нашу идентичность, «пониманием». И поскольку любая позиция, которую мы занимаем, неизбежно является «бытием-в-мире», понимание несет в себе некоторую степень компетенции имения дела с миром. Таким образом, понимание бытия вообще встроено в человеческую агентность как таковую.
В той степени, в которой все наши действия являются частью некоего всеобъемлющего проекта или множества проектов, наша деятельная жизнь может быть понята как воплощение некоего жизненного проекта. По мнению Хайдеггера, мы существуем ради нас самих: принятие ролей и выражение черт характера в каждом случае способствуют некоторому пониманию того, что значит быть человеком.
Существование имеет направленность или целенаправленность, которая придает нашим жизненным историям некоторую степень связности.
По большей части такой жизненный план требует совсем немного сознательного формулирования целей или обдумывания средств. Он исходит из наших навыков как представителей определенной исторической культуры, которую мы в значительной степени освоили по ходу вживания в общий мир. Это не выраженное словами «предпонимание» делает возможным наше привычное обитание с вещами и другими людьми в привычном, повседневном мире.
Хайдеггер настаивает, что все возможности конкретного понимания и действия обретаются посредством общих практик, предпосланных той социальной средой, в которой мы обнаруживаем себя тем, что он называет «Люди» (das Man). Отнюдь не полагая, что социальное бытие есть нечто чуждое и противное нашей человечности, Хайдеггер утверждает, что по своей сущности мы всегда остаемся общественными существами. Как он говорит, «Люди сами предписывают наиболее близкий путь интерпретации мира. Dasein в повседневности существует ради Людей… В понятие Люди, и в качестве Людей, я приблизительно „дан“ „себе“» (Хайдеггер 2003 [1927]: 193).
Например, чтобы быть учителем, мне нужно принять (и, возможно, смешать) некий набор готовых стилей подачи материала и работы со студентами во время занятий, заранее уже предложенный существующими нормами и конвенциями профессионального поведения.
Тем не менее сказать, что мы всегда суть Люди — не значит сказать, что мы являемся простыми автоматами. Хайдеггер полагает, что даже в мягком конформизме «усредненной повседневности» мы постоянно совершаем выборы, которые отражают наше понимание того, кто мы есть. И все же в обычной повседневной жизни мы, как правило, плывем по течению, выступая в роли «стада» или «толпы» — формы жизни, которую Хайдеггер называет «падением» (Verfallen) (2003 [1927]: 193), оговариваясь, что называя ее так, он не подразумевает «плохое или плачевное онтическое свойство, от которого, возможно, более продвинутые стадии человеческой культуры могли бы избавиться» (2003 [1927]: 193).
Наоборот, поскольку выхода из социального мира нет, — ведь это единственная игра из предложенных, — оно играет положительную роль в создании фона взаимопонимания, который и позволяет нам быть людьми в первую очередь.
Однако Хайдеггер сознает, что есть нечто глубоко проблематичное в этом падающем модусе существования. Когда мы «делаем, что и другие», нам, как он полагает, не удается присвоить самих себя.
Мы совершаем выбор не как свой собственный и в результате не являемся авторами наших собственных жизней. В той степени, в которой мы не владеем нашими жизнями или отреклись от них, существование неподлинно (uneigentlich), не есть наше собственное (eigen).
Наше состояние как Людей (Das Man) состоит в рассеивании, отвлеченности и забывчивости. Но это «падение вниз» ухватывает только один аспект Dasein, говорит Хайдеггер. Чтобы обрести подлинность, нужно претерпеть личную трансформацию, которая вырвет нас из падения. Это возможно лишь при глубоком озарении.
Первый значительный сдвиг может произойти, когда некто переживает интенсивный приступ тревоги. В тревоге знакомый мир, который, казалось, гарантирует нашу безопасность, внезапно рушится, и в этом разрушении мира выясняется, что значимость вещей «мироотсутствует» (Хайдеггер 2003 [1927]: 215). Некто находит себя совершенно одиноким, без какой-либо поддержки со стороны мира. В тревоге вот-бытие встречает себя как индивидуальное, совершенно одинокое. По словам Хайдеггера, «Тревога индивидуализирует Присутствие [Dasein], таким образом, приоткрываясь как „солипсизм“» (2003 [1927]: 216).
Вторым трансформирующим событием служит столкновение с чьей-то «наисобственнейшей» возможностью, возможностью смерти как возможной потерей всех возможностей. Во встрече лицом к лицу с собственной конечностью мы обнаруживаем, что мы — это всегда направленные вперед сбывания или проекты, в которых то, что важно для продолжения движения — это не актуализация возможностей, но то, „Как“ проживается жизнь.
Хайдеггер пробует изобразить жизненный путь, который он зовет забегающим вперед (Vorlaufen), как жизнь, которая проницательно и интенсивно осуществляет свои наброски, какими бы они ни были.
Третье преобразующее событие — это слышание зова совести. Что сообщает нам совесть, так это факт нашей «виновности» в немецком значении слова, которое означает, что мы в долгу (Schuld) и ответственны за себя. Совесть говорит нам, что мы не достигаем того, чем можем быть, и что мы обязаны взять на себя задачу жить с решимостью и полной вовлеченностью. Такая решительность ясно видна в призвании, когда кто-то услышал некий зов и чувствует себя устремленным к выполнению этого зову.
Эти три «экзистенциала», которые структурируют бытие-в-мире Dasein, образуют «формальную экзистенциальную тотальность структурно целого Бытия-здесь», которую Хайдеггер называет заботой.
Чтобы быть Присутствием, сущее должно иметь некое чувство того, что что «наступает» (Zu-kunft, немецкое слово «будущее»), что «пришло до» («прошедшее», Vorbei), и с чем мы имеем дело в конкретной ситуации («сделать сейчас»).
Определяющие характеристики возможности существования для Dasein отражены в трансформирующих нас событиях, которые дают нам возможность обрести подлинность (eigentlich, как мы видели, от основы со значением «надлежащий» или «собственный»).
Когда Dasein встречает и постигает свою подлинную возможность существования, становится возможно увидеть целое Присутствия, включая его бытие как бытие Людьми, так и подлинное бытие-собой. «Присутствие подлинно в его изначальной индивидуализации», где «постоянство [Ständigkeit] Себя... достигает ясности» (Хайдеггер 2003 [1927]: 151). То, что определяет целостность и единство Dasein, зависит не от лежащей в его основе субстанции (т.е. Субъекта, подлежащего), но определяется «решимостью и стойкостью» (beständigen Standfestigkeit, там же) подлинности.
Ключ к пониманию подлинности лежит, как мы увидели, в характеристике бытия Присутствия как отношения между двумя аспектами или измерениями, оформляющими человеческое существование.
С одной стороны, мы находим себя брошенными в мир и ситуацию, которую создали не мы сами, уже расположенными настроением и конкретными обязательствами, с прошлым позади нас, которое ограничивает наш выбор. Что касается этого измерения человеческой жизни, то мы, как правило, захвачены частными заботами, печемся о делах, стремимся успевать с время от времени возникающими делами. Это «бытие-в-ситуации» естественно склоняет нас к повседневному падению, каким его описывает Хайдеггер.
Вместе с тем, однако, быть человеком значит находиться в процессе, устремленном к достижению целей, которые понимаются как неотъемлемая часть всеобъемлющего личного жизненного проекта.
Мои действия в любой момент, хотя и направлены, как правило, на выполнение задач, диктуемых обстоятельствами, также совокупно выступают как создающие меня как личность того или иного типа. В этом смысле мои проекции в будущность как «понимание» имеют структуру бытия проекцией в мою наисобственнейшую возможность бытия.
Так, например, когда я принимаю участие в скучной родительском собрании, я делаю это в рамках одной из моих текущих обязанностей. Но это также часть бытия родителем, поскольку это частично определяет «то, ради чего» я понимаю себя как существующего. Проясняя для себя отличие текущих стратегических действий от долгосрочных жизнеопределяющих предприятий через текущие цели/средства, можно увидеть два смысла свободы, фигурирующие в хайдеггеровском толковании человеческого существования.
Есть свобода в банальном смысле делания того, что я выбираю делать в обычных условиях, свобода, которую Хайдеггер предположительно интерпретирует в духе агентных либертарианских теорий. Но есть также свобода в более основательном этическом смысле. Кроме выбора направлений действий среди возможных Присутствие способно «выбрать выбирать тип бытия-собой» (Хайдеггер 2003 [1927]: 335) через постоянное собирание той идентичности, ради которой оно существует. Так, я присутствую на родительском собрании и веду себя определенным образом, поскольку меня заботит то, каким родителем и гражданином я являюсь.
Я понимаю, что эта позиция имеет следствия для моей жизни в целом, и осознаю необходимость решимости придерживаться такого рода обязательств, если хочу формировать свою идентичность такой, какой я хочу ее видеть.
Для Хайдеггера решительная приверженность, которая конкретизируется и определяется в каждодневных действиях, — это то, что наделяет нас стойкостью перед лицом жизни. Это также состояние ответственности за свое собственное существование: «Только так можно быть ответственным [verantwortlich]», — говорит Хайдеггер (2003 [1927]: 364).
Подлинность, понимаемая как отстаивание того, что ты делаешь — как владение и присвоение агентом своих поступков — становится возможным в такого рода непоколебимой приверженности «ради чего» своего существования.
Должно быть очевидно, что такая концепция подлинности имеет очень мало общего с прежней идеей быть верным своим предзаданным чувствам и желаниям.
Но идея «быть честным перед собой» по-прежнему играет здесь важную роль. Что отличает эту концепцию от концепций популярной психологии и романтического толкования подлинности, так это то, что «истинное Я», которому мы должны быть верны, не есть некий предзаданный набор устойчивых чувств, мнений и желаний, которые мы опрашиваем путем обращения внутрь себя или интроспекции.
Наоборот, «настоящее Я», которое здесь подразумевается, — это непрерывная нарративная конструкция: составление своей автобиографии посредством определенных способов действия на протяжении жизни как целого. Чувства и желания, разумеется, очень важны, так же как и особенности ситуации и наших конкретных отношений с другими. Хайдеггер хочет восстановить прочное чувство целостности живущего индивида. Но эта целостность обнаруживается в связности того, что Хайдеггер называет «сбыванием» или «движением» жизни, — то есть в раскрытии и постоянном «в-процессе» рассказывания, который продолжается до нашей смерти.
В идеале подлинности на кону стоит не верность некоей заранее данной природе, а скорее бытие личностью определенного рода. Хайдеггер подчеркивает, что для подлинности необходимо выказывать такие добродетели, как настойчивость, целостность, прозорливость, гибкость, открытость и т.д.
Должно быть очевидно, что такая жизнь необязательно противопоставляется этическому и социально деятельному существованию. Наоборот, подлинность представляется как «исполнительная добродетель», которая предоставляет условия возможности быть моральным агентом в любых значимых смыслах.
Другие утверждают, что Хайдеггер использует понятие подлинности как в оценочно-нормативном, так и в дескриптивном смысле.
В дескриптивном смысле неподлинность есть просто исходное состояние повседневной жизни, в рамках которого наше отношение к себе опосредуется другими.
В этом смысле подлинность не подразумевает суждения о том, какая модальность существования для Dasein приоритетна.
Но порой язык Хайдеггера становится нормативным (Carman 2003), и казавшаяся нейтральной неподлинная форма отношения оборачивается чем-то негативным.
Неподлинное Присутствие теперь «не оно само», оно теряет себя (Selbstverlorenheit) и становится отчужденным от себя. Некоторые исследователи утверждают, что в этот момент, вводя нормативно-оценочный смысл, Хайдеггер представляет три способа существования: подлинность — усредненность — неподлинность, где подлинность и неподлинность — это сущностные модификации усредненной повседневности (Blattner 2006: 130; Dreyfus 1991).
В такой картине подлинный способ жизни есть собственное, неподлинный — несобственное, а срединный — то, как мы живем большую часть времени — попросту неприсваиваем.
Присутствие и подлинность возникают на контрасте с этим опытом и из этого опыта, так что исходное изначально индифферентное состояние открыто как для подлинности, так и для неподлинности. Вдобавок к этому Карман (Carman 2003 [1927]: 295) утверждает, что хайдеггеровское понятие совести может помочь нам в дальнейшем прояснить его толкование подлинности и показать, как «зов совести» может быть понят в качестве экспрессивной отзывчивости к собственной единичности.
Сартр и де Бовуар
Опубликованный в 1943 году, главный труд Сартра «Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии» имел огромное значение для философской мысли и интеллектуальной жизни второй половины XX века. Принципиальной задачей этой книги было «отречение от духа серьезности», присущего традиционной философии так же, как и буржуазной культуре (Сартр 2000 [1943]: 625).
Дух серьезности подразумевает, (1) что есть заранее предпосланные людям трансцендентные ценности и (2) что ценность вещи — это часть актуального бытия оцениваемой вещи. На взгляд Сартра, все ценности, напротив, производятся ситуативным взаимодействием людей, и поэтому ценность — это человеческий конструкт, в котором нет никакой внечеловеческой составляющей.
Чтобы поставить вопрос о человеческом существовании, Сартр всматривается в нашу повседневную жизнь, сосредотачиваясь на двух конкретных аспектах. Он замечает, что люди, как и другие существа в мире, имеют определенные конкретные характеристики, составляющие то, что он называет их «фактичностью», или то, что они есть «в себе» (en soi).
Фактичность составляет элемент «данности», с которой нам приходится иметь дело: я обнаруживаю себя наделенным прошлым, телом и социальной ситуацией, которая ставит предел моим возможностя. Это «просто быть здесь» прежде всего контингентно: у моего существования нет предварительного оправдания или основания.
По мнению Сартра, «в себе» не имеет никаких определяющих характеристик, поскольку любое определение (каждое «это, не то») исходно вводится в тотальность бытия нашими специфическими интерпретациями вещей.
Поскольку люди разделяют «фактичность» с другими существами, они уникальны среди многообразия живых существ постольку, поскольку способны посредством рефлексии и самосознания дистанцироваться от «в себе».
Что отличает меня как человека от бытия некой вещью в мире с относительно фиксированными атрибутами — это моя способность ставить свою собственную жизнь под вопрос, спрашивая себя, хочу ли я, например, быть тем или иным человеком. Эта способность дистанцироваться включает «ничто» или «небытие» в тотальность всего, что есть, позволяя мне собирать окружающее меня в значимое и различимое целое. Кроме того, человеческое сознание является источником отрицания, поскольку оно само есть «ничто».
Другими словами, человек — это не просто «в себе», но также и «для себя» (pour soi), его отличает то, что Сартр называет «трансценденцией». Как трансценденция, я всегда больше, чем моя фактичность, потому что, превосходя свое грубое бытие, я стою перед открытым полем возможностей самоопределения в будущем.
Понятие трансценденции у Сартра тесно связано с идеей свободы.
Люди свободны в том смысле, что они способы выбирать способы истолкования вещей, и в этих истолкованиях они принимают решение относительности их значимости. Мы конституируем мир посредством нашей свободы в той степени, в которой наш способ имения дела с вещами определяет то, что будет значить для нас и как будет упорядочена реальность.
Вместе с этим мы конституируем себя посредством совершаемых нами выборов: хотя фактичность моей ситуации накладывает некоторые ограничения на способы моего истолкования себя, именно я принимаю решение относительно смысла этих ограничений, и отсюда следует, что то, что я воспринимаю как ограничения, в действительности есть продукт моих собственных истолкований или моей работы по наделению смыслом.
Такие ограничения понимаются в свете исходных привязанностей, которые делают нашу ситуацию умопостигаемой, дозволяя определенные действия и/или способы оценивания.
Именно наши исходные привязанности формируют наш мир, делая ситуации и объекты предпочтительными или угрожающими, простыми или полными препятствий, в общем, допуская определенные действия (Сартр 2000 [1943]: 494).
Наша вовлеченность предпосылает герменевтическую структуру, в рамках которой наши ситуации и мотивы становятся постижимы и открывают себя тем способом, коим ситуация нам является — как значимая, требующая нашего внимания и т.д. (2000 [1943]: 489).
Важно отметить, что сартровское понятие свободы носит радикальный характер. Свобода абсолютна в той мере, в который каждый человек принимает решение относительно значения ограничений его или ее фактичности: «Я считаю, что полная ответственность за мою фактичность… непостижима прямым образом», поскольку предполагаемые «факты» обо мне — это никогда не голая правда, «но [они] всегда возникают как проектная реконструкция моего для-себя» (Сартр 2000 [1943]: 560).
Для Сартра лишь наши выборы с полагаемыми в них целями делают наши ситуации значимыми, опасными или предпочтительными, дозволяя определенные действия и т.д. Сопротивления и препятствие, с которыми мы сталкиваемся, обретают смысл только в условиях свободного выбора и посредством него.
Так, индивиды ответственны не только за свои идентичности, но и за способ, каким мир являет себя в их опыте. Даже другие — это всего лишь «случаи и шансы» для моей свободной творческой деятельности. В соответствии с этой ранней формулировкой, именно мы истолковываем значение других людей для нас относительно ситуаций, в которые мы вовлечены (Сартр 2000 [1943]: 560).
Но людей определяет не только фактичность и трансцендентность; они также воплощают глубокое и непримиримое напряжение, существующее между фактичностью и трансценденцией. Это напряжение выходит на первый план в сартровском толковании «ложной веры». Ложная вера как вид самообмана включает веру или принятие себя за Х в то время, как он (и он сам об этом знает) есть Y.
С наиболее привычной формой ложной веры мы сталкиваемся, когда действуем так, как будто являемся всего лишь вещью — чистой фактичностью — и таким образом отрицаем собственную свободу делать себя чем-то иным.
Так, личность, считающая себя трусливой, «поскольку так оно и есть», исключает возможность изменить свою жизнь, изменив свое поведение. Такого рода самообман есть отрицание трансценденции, или свободы.
Сперва может показаться, что ложной веры можно избежать, связывая себя искренними, глубокими обязательствами и придерживаясь их, — например: отваживаясь на всеохватную, решительную вовлеченность, сравнимую с кьеркегоровской «бесконечной страстью».
Сартр рассматривает человека, который старается всем сердцем поверить, что его друг действительно его любит. «Я верю в это, — говорит он. — Я принимаю решение этому верить и держаться такого решения…» (Сартр 2000 [1943]: 103). Моя вера будет крепкой и прочной, подобно чему-то «в себе», которое насыщает мое бытие и превозмогает все слабости и нестабильности моей субъективной жизни. Я знаю, что я верю в это, скажу я. Если я смог поверить чему-то таким образом, то подобное можно назвать «хорошей верой»: действительно быть чем-то, без прокравшегося вопросительного «не то». Однако Сартр сомневается в возможности дать такое полное жизнеопределяющее обязательство.
На самом деле, говорит Сартр, любая подобная «хорошая вера» будет лишь чуть большим, чем иная форма самообмана. Ведь если мое решение верить — и в самом деле решение, то оно всегда должно быть чем-то, что в какой-то степени дистанцирует меня от того, относительно чего я принял решение.
Вот почему мы говорим «верить», подразумевая определенную степень неуверенности, как когда мы говорим: «Является ли Пьер моим другом? Я ничего об этом не знаю; я верю в это».
Ясное самосознание показывает, что, совершая выбор, мы никогда не достигаем состояния «в себе», поскольку то, что мы есть, всегда для нас под вопросом. Это имеет в виду Сартр, когда говорит, что человек всегда «заранее саморазрушен», и что самообман [всегда] опосредует веру (Сартр 2000 [1943]: 103). Таким образом, получается, что проект хорошей веры невозможен, поскольку мы всегда неизбежно подвержены ложной вере.
Неустранимость самообмана, кажется, не оставляет подлинности никакого места. Возможно, именно поэтому слово, переводимое как «подлинный», появляется в этом огромном томе всего дважды.
Один раз Сартр нападает на Хайдеггера за то, что тот понимает подлинность как установление чего-то прочного посреди абсолютно случайного или контингентного в иных отношениях мира. Понятие подлинности «слишком ясно обнаруживает себя как забота [Хайдеггера] об онтологическом обосновании этики…» (Сартр 2000 [1943]: 112–113).
Второй раз (и более неопределенно) Сартр использует это слово в начале книги, в конце обсуждения ложной веры.
Тут Сартр признает, что из его понимания самообмана, похоже, следует, что такой вещи, как хорошая вера, не существует, и поэтому неважно, верит ли человек или обманывает себя, что, в свою очередь, подразумевает, что «нам никогда окончательно не избавиться от ложной веры». Тем не менее, продолжает он, возможно «возобновление бытия, развращенного им самим», выздоровление, «[которое] мы называем аутентичностью [подлинностью], описанию которой здесь не место» (Сартр 2000 [1943]: 104).
Отсюда можно сделать вывод, что быть верным себе невозможно, поскольку нет никакого «себя». Тем не менее к подобному негативному заключению может прийти только тот, кто перенял «дух серьезности», который Сартр подвергает критике.
Серьезность заставила бы нас полагать, что суть дела состоит в том, что человек либо верит, либо нет. Но, как заметила Линда Белл (Bell 1989: 45), возможно и другой вариант. Отрицая дух серьезности, можно ясно осознать, что вера как трансценденция всегда под вопросом и, следовательно, никогда не бывает надежной. Хотя, в то же время, можно и признать, что человек как фактичность поистине держится некоей веры и что вера остается ключевым компонентом его бытия как бытия агентом, вовлеченного в ситуацию.
Согласно витиеватой формулировке Сартра, «он будет прав, если будет считать себя существом, которое есть то, чем оно не является, и не есть то, чем оно является» (Bell 1989: 45). В этом смысле я верю, но я также сознаю свою способность отречься от веры, поскольку ничто не выгравлено на камне.
Здесь предлагается, что коррелят подлинности может быть найден в идее верности неизбежному противоречию, лежащему в основании человеческого существа. Этой верности можно достичь, если отчетливо осознать фундаментальную двусмысленность человеческого состояния.
Подлинность будет, таким образом, тем, что Сартр называет «возобновлением бытия, развращенного им самим» (2000 [1943]: 104). В этом смысле люди никогда не могут быть по-настоящему тождественны простым объектам как вещам с определенными атрибутами. По словам Бэлл, подлинность будет «осознанием и принятием этой основополагающей двусмысленности» (Bell 1989: 46). Это заключение подтверждается поздней работой Сартра «Антисемит и еврей», где он пишет:
Ясное осознание двойственности человеческого существования — ключевая идея работы «За мораль двусмысленности» Симоны де Бовуар. Бовуар берет сартровское описание человеческого состояния и, разрабатывая концепцию подлинности, развивает идеи, только вчерне обрисованные Сартром в его знаменитой лекции «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946).
Согласно Бовуар, концепция человека как «включенной свободы» Сартра подразумевает не только то, что каждый индивид находит его «смысл жизни» в конкретных реализациях свободы, но что желание собственной свободы необходимо включает желание свободы для всех людей. В достижении собственной свободы, как она пишет, свобода также должна желать «открытого будущего, стремясь увеличить себя посредством свободы других» (Beauvoir 1948: 60).
Дело здесь в том, что преданность свободе, когда она четко осознается во всей ее полноте, будет рассматриваться как призыв к будущему, в котором неограниченный диапазон возможностей открыт для всех.
Бовуар также развивает сартровское понятие ангажированности, используя его для расширения идеи подлинности. Согласно Сартру, мы всегда уже вовлечены в происходящее в мире, ангажированы им, осознаем мы это или нет.
Быть человеком значит уже быть включенным в конкретные социальные ситуации, которые требуют от нас принятия определенных обязательств. Сартр использует этот основополагающий факт ангажированности как лейтмотив для увещевания нас быть вовлеченными в более глубоком смысле, который предполагает наличие решимости и беспрекословное следование тому, что требует текущая ситуация.
Конечно, как только мы оставили дух серьезности, мы поняли, что нет заведомо данных принципов или ценностей, которые диктуют тот или иной способ экзистенциальной вовлеченности, так что любое принятое обязательство будет неустойчивым и безосновательным. Но подлинность обретет тот, кто решится на ужасающую свободу быть высшим источником ценностей и будет действовать с ясным и твердым осознанием того, что лучше для него в этой ситуации. Таким образом, концепция подлинности крепко связана с идеалом быть честным перед собой: в нашем конкретном существовании мы призваны стать тем, чем мы уже являемся в онтологической структуре нашего бытия.
Это похоже на то, как описывает Сартр последствия противных самым глубоким обязательствам поступков.
Сартр далее говорит, что характер действия может быть таким, что
Таким образом, поступая иначе или, точнее, будучи неспособным следовать своим важнейшим обязательствам, я расплачиваюсь переменой себя. Такая перемена разрушает мое сложившееся представление о себе.
Позднейшие представления о подлинности
В последние три десятилетия такие авторы, как Тейлор (Taylor 1989, 1991, 1995, 2007), Феррара (Ferrara 1993; 1998), Джейкоб Голомб (Golomb 1995), Гиньон (Guignon 2004, 2008) и Варга (Varga 2011а), предпринимали попытки реконструировать концепцию подлинности, утверждая, что справедливая критика идеи подлинности как потакания себе все же не выносит самой этой идее окончательный приговор (см. Taylor 1991: 56).
Вместо того, чтобы вовсе отказаться от идеи подлинности, они пробуют ее воссоздать таким образом, чтобы подлинность не приводила ни к эстетскому, ни к атомистическому потаканию себе.
В «Этике подлинности» и более подробной работе «Источники „Я“» Тейлор обосновывает сохранение понятия подлинности (и связанные с этим практики) тем, что в исходном и неискаженном виде идея подлинности содержит важный элемент самотрансценденции (Taylor 1991: 15; Anderson 1995). Не будучи удовлетворенным широко распространенной критикой подлинности как надлежащего этического ориентира, Тейлор намеревается доказать, что подлинность необязательно ведет к эстетизму и потаканию себе: справедливая критика подлинности как потакания себе не оправдывает полный отказ от идеи подлинности как таковой (Taylor 1991: 56).
Это значило бы отделение эстетических, субъективистских, индивидуалистских и самооправдательных интерпретаций этого идеала от того, что Тейлор (Ibid.: 15) считает исходным пониманием подлинности как достижения самотрансценденции (Anderson 1995).
Восстановление неискаженной версии понятия подлинности, говорит Тейлор, могло бы защитить от нас бессмысленности — одного из «недугов модерна», который, по его мнению, связан с тривиализированными формами культуры подлинности. Самотрансценденция, некогда бывшая одним из ключевых элементов идеала подлинности, практически утрачена в его современных версиях. Эта утрата дает начало культуре самолюбования, которое в конечном счете перерастает в абсурд.
Уже в «Источниках „Я“» Тейлор обращает внимание на то, как модернизм рождает новый тип обращения вовнутрь, которое не только пытается преодолеть механическую концепцию самости, привязанную к отвлеченному разуму, но также романтический идеал абсолютного совпадения внутренней природы и разума.
Напротив, для модернистов обращение вовнутрь не означает обращения к Я, нуждающемуся в артикуляции.
Хотя в модернизме обращение ко внутреннему по-прежнему несло элемент самотрансценденции, важнейшим порогом, где идеал подлинности «уплощается», становится тот, где подлинность «контаминируется» некой разновидностью «самоопределяющей свободы», также содержащей элементы интериорности и неконвенциональности (Taylor 1991: 38).
Самоопределяющая свобода не только не является необходимым элементом подлинности, но также контрпродуктивна, поскольку заложенный в нее эгоцентризм «уплощает» смыслы жизни и фрагментирует идентичность.
Для Тейлора процесс артикуляции идентичности включает в себя установление отношения с благом или с чем-то значимым, что связано с принадлежностью человека к языковому сообществу (Taylor 1989: 34-35). Как он ясно показывает, «подлинность не противоречит требованиям, которые исходят извне самости.
Напротив, она включает в себя такие требования» (Taylor 1991: 41). Я не могу решать, что является значимым, это было бы противоречием. Напротив, все, что обладает значимостью для меня, должно быть связано с интерсубъективным пониманием блага, откуда и исходит значительная доля его нормативной силы.
В таком смысле подлинность просто требует соотнесения с вопросами об общих ценностях, которые выходят за пределы личных предпочтений. Тейлор хочет показать, что формы современной культуры, которые нацелены на самореализацию без учета
Таким образом, мы не только нуждаемся в признании конкретных других для формирования нашей идентичности, но мы также должны научиться (критически) использовать общий словарь разделяемых ценностных ориентиров.
Иными словами, Тейлор отмечает, что подлинность нуждается в усвоении ценностей, которые составляют наш коллективный горизонт.
В «Рефлексивной подлинности» Алессандро Феррара тоже пробует защитить подлинность как идеал, но, в отличие от Тейлора, его интересуют социальные и философские вопросы об отношениях между подлинностью и обоснованностью (validity).
Согласно анализу Феррары, мы находимся сегодня в состоянии перехода, который кроме того, что влияет на культуры, ценности и нормы, также затрагивает «критерии обоснованности», таким образом «в корне изменяя символическую сеть, посредством которой мы устанавливаем отношение к реальности и воспроизводим наши формы жизни» (Ferrara 1998: 1).
В корне этой трансформации лежит новое истолкование «счастливой жизни», эвдемонии (eudaimonia) как нормативного идеала подлинности, которая может помочь реконструировать понимание нормативности на современный лад. Для Ферррары оно может основать новый идеал универсальной обоснованности, «непосредственно связанной с моделью образцовой уникальности или просвещающей сингулярности, до сих пор ассоциировавшейся с „эстетикой“» (Ferrara 1998: 10).
Получается, что подлинность характеризует «внутренняя конгруэнтность» индивидуальной, коллективной или символической идентичности (Ferrara 1998: 70), и предполагается, что она предоставляет новое универсальное обоснование, которое строится не на обобщаемом, а на единичном. Феррара рассматривает идею индивидуального закона Зиммеля как пример-инструкцию такого рода антиобобщающего универсализма, и именно эта характеристика делает подлинность более уместной в плюралистическом контексте, с которым столкнулись западные общества.
Голомб (Golomb 1995) предлагает подробный исторический обзор развития концепции подлинности, уделяя внимание как литературным, так и философским источникам. Не переставая напоминать нам о социальном измерении подлинности, он — и это является его важным достижением — фокусируется на пограничных ситуациях, в которых подлинность лучше всего «выковывается и показывает себя» (Ibid.: 201). Голомб занимает нейтральную позицию в этической оценке подлинности, утверждая, что «нет причины считать, что держаться подлинности лучше или ценнее, чем поступать неподлинно» (Ibid.: 202).
Гиньон (Guignon 2004) исследует как философские истоки подлинности, так и ее сегодняшние проявления в популярной культуре. Он вдумчиво критикует популярную литературу по психологии, где подлинная жизнь достигается обращением к подавленному «внутреннему ребенку».
Со времен Руссо дихотомия между подлинным и неподлинным, как правило, проводилась с отсылкой на различие между ребенком и взрослым (Guignon 2004: 43).
Подобно внутреннему ребенку, подлинное Я изображалось как еще не испорченная различными влияниями, конкуренцией и конформизмом публичной жизни. Гиньон опирается на психоаналитические теории Фрейда и Юнга, чтобы напомнить нам о менее романтических версиях внутреннего дитя.
Вдобавок к этому Гиньон (Guignon 2004: 151) нацелен определить способ, которым подлинность можно понимать как одновременно и личную, и «фундаментально и несводимо» социальную добродетель. Тогда подлинность включает рефлексивное различение того, что действительно достойно преследования в социальном контексте, в котором расположен агент (Ibid.: 151).
Если идеал подлинности возможен только в свободном обществе с цельным основанием в виде установившихся социальных ценностей, похоже, что попытка быть подлинным — если все это действительно так — должна иметь в себе старание продлить и взрастить тип общества, в котором такой идеал возможен.
Рефлексия по поводу социального воплощения добродетелей в таком случае сообщает, что подлинность, как и многие другие характерные идеалы, несет с собой обязательство привносить что-то удержанию и благополучию конкретного типа социальной организации и стиля жизни (Guignon 2008: 288; 2004: 161).
Также Гиньон (Guignon 2004, 2008) считает, что в демократическом обществе, где авторитет правительства — при выборе политического курса — покоится на согласии управляемых, имеются прочные основания для развития таких ценностей, как подлинность, которые поддерживают подобную организацию власти.
Быть подлинным — значит ясно сознавать свои наиболее глубокие чувства, желания и побуждения и открыто выражать свою позицию в публичной сфере. Но эта способность и есть то характерное свойство, которое необходимо эффективному члену демократического общества (Guignon 2008: 288).
Варга (Varga 2011а) разделяет оснополагающее допущение, что подлинность имеет определенный потенциал (и поэтому заслуживает того, чтобы придать ей новую формулировку), но также полагает, что она может использоваться для критических исследований практик себя для современной жизни.
В ходе анализа литературы по самопомощи и управлению собой Варга замечает «парадоксальную трансформацию»: идеал подлинности, некогда бывший вакциной от иерархичных институций и требований капитализма, сегодня, похоже, функционирует и как институализированное требование к субъектам соответствовать системным запросам современного капитализма, и как фактор экономической утилизации субъективных способностей.
Варга полагает, что мы выражаем себя именно в «экзистенциальных выборах» и что они обладают сложной феноменологией, для которой характерно чувство необходимости.
В таких выборах, которые называются «безальтернативными», мы артикулируем самих себя, воплощая в реальности некоторые негласные интуиции, которые зачастую принимают гештальтоподобную форму. В этих случаях мы открываем и то, кто мы есть «внутри», и активно конституируем себя.
Исследование структур наших обязательств, предпринятое Варгой, завершается утверждением, что внутренние структуры принятых нами обязательств привязывают нас к чему-то большему, чем наши заботы.
Во многих случаях они действительно связывают нас с публично постижимым ценностям, которые мы обязались воплотить, — аспект, который может ограничивать способ нашего практического обсуждения и способ, посредством коего мы можем выполнять наши обязательства (Varga 2011a,b).
Библиография
• Августин, 2011, Об истинной религии. Теологический трактат, Минск: Харвест.
• Адорно, Т. В., 2011, Жаргон подлинности. О немецкой идеологии, Москва: Канон плюс.
• Беньямин, Вальтер, 1996, Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости в Произведение искусства в эпоху его технической вопроизводимости: Избранные эссе, Москва: Медиум, с. 15–65.
• Гегель, Г. В. Ф., 2000, Феноменология духа, Москва: Наука.
• Карнеги, Дейл, Как перестать беспокоиться и начать жить, Москва: Попурри.
• Кьеркегор, Сёрен, 2005 [1846], Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам», Санкт-Петербург: СПбГУ.
• –—, 2010, Страх и трепет, Москва: Культурная революция.
• Рорти, Ричард, 1996, Случайность, ирония и солидарность, Москва: Русское феноменологическое общество.
• Руссо, Жан-Жак, 1961, Избранные сочинения, Москва: Красный пролетарий.
• –––, 1992 [1754], «Рассуждения о происхождении неравенства» в Антология мировой философии: В 4 тт., Москва, 1970, т. 2.
• Сартр, Жан-Поль, 1989, «Экзистенциализм — это гуманизм» в Сумерки богов, Москва: Политиздат.
• –––, 2000, Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии, Москва: Республика.
• Фуко, Мишель, 1994, Слова и вещи. Археология гуманитарных наук, Москва: A-cad.
• –––, 1996, «История сексуальности. Том первый» в Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности, Москва: Касталь.
• Хайдеггер, Мартин, 2003, Бытие и время, Харьков: Фолио.
• Adorno, Theodor W., 1974, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E. F. N. Jephcott. London: NLB.
• Aho, Kevin, 2014, Existentialism: An Introduction, Cambridge: Polity.
• Anderson, Joel, 1995, “Review Essay: The Persistence of Authenticity”, Philosophy and Social Criticism, 21(1): 101–109.
• Augustine, 1988, Tractates on the Gospel of John 1–10, translated by John W. Rettig. (The Fathers of the Church, 78), Washington, DC: Catholic University of America Press.
• Beauvoir, Simone de, 1970 [1947], The Ethics of Ambiguity, New York: The Citadel Press.
• Bell, Daniel, 1976, The Cultural Contradictions of Capitalism, New York: Basic Books.
• Bell, Linda A., 1989, Sartre's Ethics of Authenticity, Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
• Bellah, Robert N. et al., 1985, Habits of the Heart, Berkeley: University of California Press.
• Berlin, Isaiah, 2000, Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, Herder, Princeton: Princeton University Press.
• Berger, Peter, 1970, “On the Obsolescence of the Concept of Honor”, European Journal of Sociology, 11(2): 338-347; reprinted in S. Hauerwas and A. MacIntyre, eds., Revisions: Changing Perspectives in Moral Philosophy, Notre Dame University Press, 1983.
• Berman, Marshall, 1970, The Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society, New York: Atheneum.
• Blattner, William, 2006, Heidegger’s Being and Time, New York: Continuum.
• Bloom, Allan, 1987, The Closing of the American Mind, New York: Simon and Schuster.
• Calhoun, Cheshire, 1995, “Standing for something”, The Journal of Philosophy, 92: 235–60.
• Carman, Taylor, 2003, Heidegger's Analytic: Interpretation, Discourse, and Authenticity in Being and Time, New York: Cambridge University Press.
• Darnton, Robert, 1984, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, New York: Viking.
• Davenport, John J., 2012, Narrative Identity, Autonomy, and Morality: From Frankfurt and MacIntyre to Kierkegaard, New York: Routledge.
• Despland, Michel, 1975, “Can Conscience Be Hypocritical? The Contrasting Analyses of Kant and Hegel”, The Harvard Theological Review, 68 (3/4): 357–370.
• Dreyfus, Hubert L, 1991, Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger’s Being and Time Division I, Cambridge, MA: MIT Press.
• Dutton, Denis, 2003, Authenticity in Art, in The Oxford Handbook of Aesthetics, ed. by Jerrold Levinson. New York: Oxford University Press.
• Dworkin, Gerald, 1988, The Theory and Practice of Autonomy, New York: Cambridge University Press.
• Fairlie, Henry, 1978, “Too rich for heroes”, Harper's, 257: 33–42; 97–98.
• Farrell, James J., 1997, The Spirit of the Sixties, London: Routledge.
• Ferrara, Alessandro, 1993, Modernity and Authenticity: A Study of the Social and Ethical Thought of Jean-Jacques Rousseau, Albany, NY: Sunny Press.
• –––, 1998, Reflective Authenticity, London: Routledge.
• Foucault, Michel, 1984, “On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress,” in The Foucault Reader, Paul Rabinow (ed.), New York: Pantheon, pp. 340-372.
• –––, 1983, “The Subject and Power”, in Michel Foucault Beyond Structuralism and Hermeneutics by Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Chicago: University of Chicago Press.
• –––, 1988, “An Aesthetics of Existence”, in Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture, edited by Lawrence D.Kritzman, pp. 47–53, New York: Routledge.
• Golomb, Jacob, 1995, In Search of Authenticity from Kierkegaard to Camus, Routledge: London, New York.
• Gray, Glenn J., 1965, “Salvation on the campus: Why existentialism is capturing the students”, Harper's, 230: 53–59.
• Guignon, Charles, 2004, On Being Authentic, London: Routledge.
• –––, 2008, “Authenticity”, Philosophy Compass, 3: 277–290.
• Hadot, Pierre, 1992, “Reflections on the notion of the ‘cultivation of the self’”, in Timothy J. Armstrong (ed.), Michel Foucault, Philosopher, New York: Routledge, pp. 225–232.
• Honneth, Axel, 1994, “Schwerpunkt: Autonomie und Authentizität”, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 42(1): 59–60.
• Jay, Martin, 2004, “Mimesis and Mimetology: Adorno and Lacoue-Labarthe”, in Critical Theory, Vol. 4, D. Rasmussen and J. Swindal (eds), London: Sage, pp. 265–283.
• Jeffries, Stuart, 2002, “Bernard Williams: The Quest for Truth”, The Guardian, November 29, 2. [Jeffries 2002 available online]
• Kierkegaard, Søren, 1962 [1846], The Present Age, A. Dru (trans.), NY: Harper Torchbooks.
• Lasch, C., 1979, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York: Norton.
• Menke, Christoph, 2005, “Innere Natur und soziale Normativität: Die Idee der Selbstverwirklichung”, in Die kulturellen Werte Europas, edited by Hans Joas and Klaus Wiegandt, Frankfurt am Main: Fischer, pp. 304–352.
• Novak, Michael, 1976, “The family out of favor”, Harper's, 252: 37–46.
• Nussbaum, Martha, 1994, Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton: Princeton University Press.
• Orwell, Miles, 1989, The Real Thing: Imitation and Authenticity in American Culture, 1880–1940. North Carolina: University of North Carolina Press.
• Potter, Andrew, 2010, The Authenticity Hoax: How We Got Lost Trying to Find Ourselves, San Francisco: HarperCollins.
• Ricoeur, Paul, 1970, Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation, trans., S. Savage, New Haven, Conn.: Yale Univ Press.
• Riesmann, David, 1950, The Lonely Crowd. A Study of the Changing American Character, Written with Nathan Glazer and Reuel Denney, New Haven, Conn.: Yale University Press.
• Rossinow, Doug, 1998, The Politics of Authenticity: Liberalism, Christianity and the New Left in America, New York: Columbia University Press.
• Sartre, J.-P., 1948, Anti-semite and Jew, New York: Schocken Press.
• –—, 1992b [1947–48], Notebooks for an Ethics, Chicago: University of Chicago Press.
• Schneewind, J. B., 1998, The Invention of Autonomy: A History of Modern Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press
• Sennett, Richard, 1993, The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities, London: Faber & Faber.
• Sennett, Richard and Richard Cobb, 1972, The Hidden Injuries of Class, New York: Knopf.
• Sheldrake, Philip F., 2003, “Christian Spirituality as a Way of Living Publicly: A Dialectic of the Mystical and Prophetic”, Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 3(1): 19–37.
• Sisk, John P., 1973, “On being an object”, Harper's, 247: 60–64.
• Slater, Philip Elliot, 1970, The pursuit of loneliness: American culture at the breaking point, Boston: Beacon Press.
• Taylor, Charles, 1989, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge: CUP.
• –––, 1991, The Ethics of Authenticity, Cambridge: Harvard University Press.
• –––, 1995, “The politics of recognition”, in Philosophical Arguments, by Charles Taylor, 225–257. Cambridge Ma: Harvard University Press.
• –––, 2007, A Secular Age, Cambridge: Harvard University Press.
• Thomson, Irene Taviss, 2000, In conflict no longer: self and society in contemporary America, Oxford: Rowmann & Littlefield.
• Trilling, Lionel, 1972, Sincerity and Authenticity, Cambridge: Harvard University Press.
• Varga, S., 2011a, Authenticity as an Ethical Ideal, New York: Routledge.
• –––, 2011b, “Self-Realization and Owing to Others. A Morality Constraint?” International Journal of Philosophical Studies, 19: 71–82.
• Whyte, William H., 1956, The Organizational Man, New York, Simon and Schuster.
• Williams, Bernard, 1973, Utilitarianism: For and Against, Cambridge: Cambridge University Press 108–118.
• –––, 1985, “Moral Luck”, in Moral Luck: Philosophical Papers 1973–1980, Cambridge: Cambridge University Press.
• –––, 2002, Truth and Truthfulness: An Essay in Genealogy, Princeton: Princeton University Press.
• –––, 2002, Truth and Truthfulness, New Jersey: Princeton University Press.
• Wolf, Susan, 1997, “Meaning and Morality”, Proceedings of the Aristotelian Society, 97: 299–315.
• Yankelovich, Daniel, 1981, New Rules: Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down, New York: Random House.