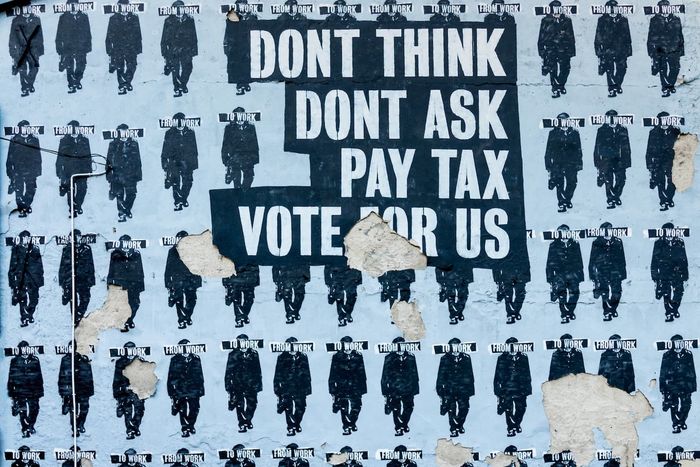Автономия в моральной и политической философии
Впервые опубликовано 28 июля 2003 года; существенно переработано 9 января 2015 года.
Индивидуальная автономия — идея, которая понималась главным образом как способность быть самим собой, жить собственной жизнью в соответствии с основаниями (reasons) и мотивами, воспринимаемыми как свои собственные и не являющимися продуктами манипуляции или искажения со стороны внешних сил. Индивидуальная автономия представляет собой ключевую ценность для кантианской традиции моральной философии, однако она также получает фундаментальный статус в утилитаристском либерализме Джона Стюарта Милля (Кант 1997; Mill 1859/1975: ch. III). Исследование понятия автономии занимает центральное место в дискуссиях об образовательной политике, биомедицинской этике, о различных юридических свободах и правах (таких как свобода слова и право на неприкосновенность частной жизни), а также в моральной и политической теории в более широком смысле. В теории морали постулирование автономии в качестве моральной ценности можно противопоставить альтернативным концепциям, таким как этика заботы, некоторые виды утилитаризма и этика добродетели. Традиционно считалось, что автономия означает независимость и, следовательно, отражает предпосылки индивидуализма в представлениях о морали и в определении политического статуса. Однако в последние десятилетия теоретики все чаще пытаются перестроить эту идею так, чтобы она больше не ассоциировалась с таким видом индивидуализма. Во всех таких обсуждениях понятие автономии находится в фокусе большинства споров, дебатов и разногласий, в которых речь идет об основаниях моральной и политической философии и, шире, о просвещенческой концепции личности.
Понятие автономии
В западной традиции воззрение, полагающее индивидуальную автономию базовой моральной и политической ценностью, в значительной степени является продуктом недавнего развития. Придание морального веса индивидуальной способности управления собой, независимо от места индивида в метафизическом порядке или его роли в социальных структурах и политических институтах, во многом представляет собой продукт модернистского гуманизма, ответвлением которого являются современная моральная и политическая философия. (Историческую дискуссию об автономии см. в работах Schneewind 1988; Lindley 1986: pt. I.) Как таковая идея автономии несет на себе груз противоречий, которым отмечено его наследие. Идея о том, что моральные принципы и обязательства, так же как и легитимность политической власти, должны основываться на управляющем собой индивиде, рассматриваемом отдельно от случайных обстоятельств места, культуры и социальных отношений, провоцирует разного рода скептицизм. Автономия, таким образом, во многом находится в гуще сложных дискуссий о статусе современности или модерности.
Автономия играет различную роль в теориях личности, концепциях морального обязательства и ответственности, обосновании социальной политики и во множестве аспектов политической теории. Она образует ядро кантианской концепции практического разума (см., например, Korsgaard 1996, Hill 1989) и подобным образом связывает между собой вопросы, касающиеся моральной ответственности (см. Wolff 1970: 12–19). Автономия также рассматривается в качестве того аспекта личности, который предотвращает или должен предотвращать патерналистские вмешательства в ее жизнь (Dworkin 1988: 121–29). Идея автономии присутствует в образовательной теории и политике и, по мнению некоторых, определяет главную цель либеральной концепции образования в целом (Gutmann 1987, Cuypers and Haji 2008; см. обсуждение Brighouse 2000: 65–111). Также несмотря на то, что ряд феминисток выражает сомнения относительно идеала автономии, этот идеал иногда рассматривается как важный концептуальный элемент некоторых феминистских идеалов, таких как выявление и устранение социальных условий, виктимизирующих женщин и других (потенциально) уязвимых людей (Friedman 1997, Meyers 1987, Christman 1995).
Основные различения
Следует провести несколько различений, чтобы сосредоточиться на том виде автономии, который представляет наибольший интерес для моральной и политической философии. «Моральная автономия» обозначает способность вменить (предположительно объективно) моральный закон самому себе, что, в свою очередь, согласно Канту, является фундаментальным организующим принципом всей морали (Hill 1989). С другой стороны, то, что может быть названо «личной автономией», подразумевает свойство, которое индивиды могут проявлять в отношении любых аспектов своей жизни, то есть не ограничено вопросами морального обязательства (Dworkin 1988: 34–47).
Личную (или индивидуальную) автономию также следует отделять от свободы, хотя и в этом случае имеется множество толкований данных понятий, и, несомненно, некоторые концепции позитивной свободы будут эквивалентны тому, что часто понимают под автономией (Berlin 1969: 131–134). Как правило, мы можем отличить автономию от свободы, поскольку последняя касается способности действовать, избегая внешних и внутренних ограничений, а также (согласно некоторым концепциям) делать желаемое действительными и обладать достаточным количеством ресурсов и власти (Berlin 1969, Crocker 1980, MacCallum 1967). Автономия касается независимости и подлинности основных желаний (ценностей, эмоций и т.д.), которые мотивируют человека к действию. Некоторые отличают автономию от свободы, настаивая на том, что свобода касается конкретных действий, тогда как автономия является более широким понятием, относящимся к состоянию личности (Dworkin 1988: 13–15, 19–20). Но понятие автономии может быть использовано для обозначения как глобального условия (автономность самости), так и более локально (автономность конкретного свойства, мотива, ценности или социального условия). Например, зависимые курильщики являются автономными личностями в общем смысле, однако (некоторые из них) неспособны контролировать свое поведение в отношении курения (Christman 1989: 13–14).
К тому же мы можем отличать идею базовой автономии — некий минимум ответственности, независимости и способности отвечать за себя — от идеи идеальной автономии — достижения, служащего целью, к которой мы можем стремиться и согласно которой личность является максимально подлинной и свободной от манипулятивных влияний, наносящих ей вред. Любая правдоподобная концептуализация базовой автономии может, среди прочего, предполагать, что большинство взрослых, не страдающих от тяжелых патологий или не находящихся в репрессивных и стесненных условиях, считаются автономными. С другой стороны, автономия как идеал вполне может быть достоянием лишь немногих (если таковые вообще найдутся), поскольку выступает целью, достичь которую можно лишь в перспективе.
Причина, по которой понятие автономии толкуется достаточно широко и применяется к большинству взрослых людей, заключается в том, что автономия сочетается с другими статусными обозначениями, которые применяются (или, как заявляется, должны применяться) в широком смысле. Некоторые полагают, что автономия связана, например, с моральной и правовой ответственностью (напр., Ripstein 1999). Она выступает критерием политического статуса, в котором автономная агентность рассматривается как необходимое (и для некоторых достаточное) качество в условиях политического равенства. Более того, автономия выступает защитой от бесконтрольного патернализма в частной, неофициальной сфере и в области права (Feinberg 1986). Недостаток автономии, как у маленьких детей, представляет собой состояние, позволяющее или допускающее сочувствие, заботу, патернализм и, возможно, жалость. Поэтому направляющим вопросом при оценивании отдельных концепций автономии будет вопрос о том, связана ли она правильным образом с этими вспомогательными суждениями (хотя это едва ли можно легко и быстро проверить). Обсуждение «формальных условий» понятия автономии см. в Dworkin 1988: 7–10.
Концептуальные вариации
Разнообразие контекстов, в которых используется понятие автономии, наводит многих на мысль, что существует лишь множество различных концепций и слово «автономия» просто отсылает к различным элементам каждого из этих контекстов (Arpaly 2004). Фейнберг утверждал, что есть как минимум четыре различных значения понятия «автономия» в моральной и политической философии: способность управлять собой, актуально наличное состояние управления собой, личный идеал и набор прав, выражающих суверенность в отношении самого себя (Feinberg 1989). Можно утверждать, что центральным для всех областей применения является понятие личности, способной действовать, думать и выбирать на основании факторов, которые являются каким-то образом ее собственными (то есть в каком-то смысле подлинными). Тем не менее ясно, что разработка «теории» автономии будет включать в себя нечто большее, чем просто раскрытие неясных деталей сути самой идеи, поскольку автономия, как и многие другие центральные для моральных и политических дискуссий понятия, само является сущностно оспариваемым понятием. Таким образом, теория автономии является простой понятийной конструкцией, направленной на устанавливание основного значения «управления собой» (self-rule), или «самоуправления» (self-government) (идеи, которые явно признают свои неточности), и используемой для поддержки тех принципов и политик, которые теория пытается оправдать.
Идея управления собой содержит два компонента: независимость своего размышления и выбора от манипуляций других и способность управлять собой (см. Dworkin 1989: 61f, Arneson 1991). Однако способность управлять собой будет лежать в самой основе понятия автономии, поскольку полное описание этой способности будет, несомненно, вести за собой представление о свободе от манипуляций извне как о главной составляющей независимости. Действительно, можно было бы утверждать, что независимость как таковая не имеет определенного значения или необходимой связи с самоуправлением, покуда мы не знаем, какой вид независимости требуется для управления собой (тем не менее ср. Raz 1986: 373–378).
Сосредоточившись на необходимых условиях управления собой, можно утверждать, что для управления собой человек должен быть в состоянии компетентно действовать исходя из своих желаний (ценностей, установок и т.д.), которые в каком-то смысле являются его собственными. Это указывает на два вида условий, часто обозначающихся в концепциях автономии: условия компетенции и условия подлинности. Компетенция включает различные способности к рациональному мышлению, самоконтролю и свободе от истощающих патологий, систематического самообмана и т.д. (В различных подходах выделяются различные условия; см., напр., Berofsky 1995, R. Young 1991, Haworth 1986, Meyers 1989.)
Условия подлинности зачастую включают способность рефлексировать над желаниями, ценностями и т.д. и подтверждать их (или идентифицироваться с ними). Самые влиятельные модели подлинности в этом контексте утверждают, что автономия нуждается в идентификации второго порядка с желаниями первого порядка. Для Франкфурта, например, желания второго порядка в действительности должны иметь структуру волевого акта: желать, чтобы желания первого порядка реализовывались в действии, чтобы они были предметом моей воли. Кроме того, такая идентификация, согласно Франкфурту, чтобы считаться свободной (автономной), относительно свершившегося в результате действия должна быть «всецелой».
Этот подход к автономии был очень влиятелен, и некоторые авторы разрабатывали его различные версии и защищали от возражений. Самое значительное возражение затрагивает, с одной стороны, неустранимую двусмысленность концепции «идентификации» и, с другой стороны, угрозу бесконечного регресса условий. Первая проблема охватывает различные способы «идентификации» индивида со своим желанием, каждый из которых вызывает множество теоретических вопросов. Человек или отождествляется с неким аспектом самого себя в смысле простого признания данного аспекта (не вынося суждения), или отождествляет себя с желанием по способу одобрения. В первом случае отождествление явно не будет непротиворечивым маркером автономии, потому что его объектом вполне может быть нечто аддиктивное, ограничивающее и навязанное. Но одобрение и принятие некоторой черты также проблематично в качестве требования автономии, потому что есть множество идеально подлинных аспектов меня самого (за которые я могу и должен нести ответственность), которое я не принимаю полностью. Я не идеален, но означает ли это, что по этой причине я не автономен? (Ср. Watson 1989, Berofsky 1995: 99–102.)
Эта модель подчеркивает внутреннюю саморефлексию и процедурную независимость. Однако такая позиция не рассматривает то, что обусловливает содержание желаний, ценностей и т.д., в силу которого некто считается автономным. А именно, она не требует, чтобы человек действовал на основании желаний, которые были бы независимы от других. Если бы такое требование имелось, то данная модель содержала бы так называемую «субстантивную независимость». Некоторые авторы настаивают на том, что автономная личность должна располагать субстантивной независимостью, так же как и процедурной (напр., Stoljar 2000, Benson 1987, 2005, Oshana 2006). В основе данной позиции лежит мысль о том, что автономия несовместима с некоторыми ситуациями, ограничивающими жизнь человека, независимо от того, как человек оказался в них (ср. Meyers 2000). Данное утверждение, однако, грозит опровергнуть любые претензии на ценностную нейтральность, которые несет в себе понятие автономии, — нейтральность, которой понятие автономии в противном случае может обладать, поскольку, согласно понятию, если человек не является автономным при (свободном, рациональном, не манипулятивном) выборе условий, существенно ограничивающих его выбор, то понятие автономии может применяться лишь к тем образам жизни и ценностным ориентациям, которые считаются приемлемыми с особой политической или теоретической точки зрения. Я вернусь к этому рассуждению чуть позже.
Одна из версий модели внутренней саморефлексии сосредотачивается на значении личной истории агента как составной части его или ее автономии (Christman 1991, Mele 1993; ср. Fisher & Ravizza 1998; ср. также Raz 1986: 371). Согласно этому подходу, ответ на вопрос о том, является ли личность автономной в данный момент времени, зависит от процессов, благодаря которым она стала такой, какая есть. Остается неясным, как те, кто придерживается подобной перспективы, могут избежать проблем, возникающих перед моделями внутренней рефлексии (см. Mele 1991; Mackenzie & Stoljar 2000b: 16–17), но с помощью подобного шага теоретики пытаются охватить понятие «самости» самоуправления, которая структурирована не только социально, но и диахранически (см., например, Atkins 2008, Cuypers 2001).
Те, кого смущает постулат рефлексивного самоутверждения, могли бы приравнять автономию к простому набору компетенций, таких как способность к обоснованному, рациональному и, как утверждает Берофски, «объективному» выбору (см. Berofsky 1995, Meyers 1989). Поступая таким образом, мы делаем автономию частью общей способности реагировать на основания, а не, например, частью актов внутренней самоидентификации. Однако даже в рамках указанных подходов способность мыслить критически и рефлексивно является необходимой для автономии как одна из рассматриваемых компетенций, даже если рефлексивное мышление не требует отсылки к внешним ценностям и идеалам (Berofsky 1995: ch. 5).
Дальнейшие трудности возникают в связи с требованием второпорядкового самооценивания для автономии, поскольку неясно, что суждения столь высокого уровня имеют более сильную претензию на подлинность, чем их первопорядковые собраты. Понятно, что если личностью манипулируют или ее притесняют (вследствие чего она не является автономной), то вполне вероятно, что рефлексивные суждения, которые она делает о себе, будут также окрашены этим притеснением, как и ее базовые решения (Thalberg 1989, Friedman 1986; Meyers 1989: 25–41; Noggle 2005). И часто наши второпорядковые рефлексивные мнения являются просто рационализацией и самообманом, а не истинными и не устойчивыми чертами нашего характера (см. Veltman and Piper 2014). Это привело к обвинению в том, что модели автономии, которые зависят от второпорядкового подтверждения, ведут к бесконечному регрессу: второпорядковые суждения должны быть проверены на подлинность точно так же, как и первопорядковые желания, но в таком случае потребуются подтверждения более высокого уровня. Для этой проблемы были предложены разные решения, большинство из которых включали дополнительные условия протекания рефлексии, например, свободу от определенных искажающих факторов, адекватное отражение каузальной истории и т.п. (Christman 1991, Mele 1995).
Следует также упомянуть и другие стороны модели внутренней рефлексии. Как только что было упомянуто, такой взгляд на автономию зачастую требовал критической саморефлексии (см., напр., Haworth 1986). Она понималась как рациональная оценка своих желаний, проверка их внутренней согласованности, их отношения к устойчивым убеждениям и т.п. Но слишком узкая концентрация на рациональной оценке провоцирует обвинения в гиперинтеллектуализме, изображающем автономную личность как холодную и обособленную вычислительную машину (см. Meyers 2004: 111–137). Связь c ценностями, желаниями и личными качествами часто основывается на эмоциональных и аффективных реакциях, связанных с заботой, обязательствами и отношениями с другими людьми (см. Friedman 1998, MacKenzie & Stoljar 2000b, Meyers 1989). По тем же причинам некоторые теоретики отмечали, что исключительная концентрация на желаниях как на центральном аспекте автономии является слишком узкой: люди могут (и не могут) осуществлять самоуправление также по отношению к широкому полю личных характеристик, таких как ценности, физические свойства, отношения с другими и т.д. (см. Double 1992: 66).
Автономия в моральной философии
Автономия занимает центральное место в ряде концепций морали одновременно и как модель моральной личности — особенность личности, благодаря которой последняя является морально ответственной, — и как аспект личности, который обосновывает обязательства, которые имеют перед ней другие. Для Канта вменение себе универсального морального закона есть основание морального долга и уважения к нам со стороны других (и наш долг перед собой) в целом. Иными словами, практический разум — наша способность использовать основания или резоны в целях выбора наших собственных действий — предполагает, что мы понимаем самих себя как свободных индивидов. Свобода означает отсутствие препятствий нашим действиям, которые так или иначе оказываются внешними по отношению к нашей собственной воле. Свобода также требует, чтобы мы, руководствуясь нашими решениями, использовали закон, который можем принять только посредством нашей собственной воли (см. Hill 1989). Это вменение себе морального закона и есть автономия.
Однако мы продолжаем: поскольку данное утверждение состоит в том, что эта способность (вменять себе моральный закон) есть высший источник всех моральных ценностей — постольку оценивание чего-либо (инструментально или по внутренним свойствам) подразумевает способность производить ценностные суждения в целом, наиболее фундаментально из которых суждение о том, что обладает моральной ценностью. Некоторые теоретики, которые не являются (самопровозглашенными) кантианцами, делают данное заключение центральным для своего истолкования автономии. Так, по словам Пола Бэнсона, автономность индивида подразумевает некоторую долю любви к себе (self-worth): чтобы нести ответственность, мы должны уметь доверять нашей способности принимать решения (Benson 1994; ср. также Grovier 1993, Lehrer 1997 и Westlund 2014). Но кантианская позиция заключается в том, что такое чувство собственного достоинства является не неким случайным психологическим фактом, но неизбежным следствием применения практического разума (ср. Taylor 2005).
Таким образом, в виду нашей автономии мы должны морально уважать самих себя. Но поскольку эта способность никак не зависит от чего-либо частного или случайного в нас самих, мы точно так же должны уважать всех других людей в виду их автономии. Следовательно (по второй формулировке категорического императива), мы обязаны действовать исходя из фундаментального уважения к другим людям в силу их автономии. Таким образом, автономия осуществляется одновременно и как модель практического разума в установлении морального обязательства, и как особенность других личностей, заслуживающих нашего морального уважения. (Дальнейшее обсуждение см. в статье «Моральная философия И. Канта».)
В недавних дискуссиях о кантианской автономии трансцендентальная природа практического разума стала нивелироваться (см., напр., Herman 1993 и Hill 1991). Например, Кристин Корсгиард, следуя Канту, видит в нашей способности к саморефлексии объект уважения и источник нормативности вообще. По ее мнению, мы руководствуемся тем, что она называет «практической идентичностью» — точкой зрения, которая направляет нашу рефлексию над ценностями и манифестирует определенный аспект нашего самопонимания. Но, в отличие от Канта, Корсгиард утверждает, что мы располагаем различными практическими идентичностями, которые являются источником наших нормативных обязательств, и не все из них обладают основополагающей моральной ценностью. Однако наиболее общее в таких идентичностях — то, что делает нас членами царства целей, — это наша моральная идентичность, которая делает всеобщий долг и обязательства независимыми от случайных факторов. Автономия является источником всех обязательств (моральных или нет), поскольку именно эта способность обязывает нас действовать в силу нашей практической идентичности (Korsgaard 1996).
Традиционная критика теорий морали, основанных на автономии, в частности кантианской, движется в разных направлениях. Я упоминаю здесь две линии критики, поскольку они связаны с проблемой автономии в социальной и политической теории. Первая обращается к тому обстоятельству, что теория морали, исходящая из автономии, укореняет обязательства в нашей когнитивной способности, а не в эмоциях и аффективных привязанностях (см., напр., Williams 1985, Stocker 1976). Ее тезис состоит в том, что кантианская мораль оставляет слишком мало места для эмоциональных реакций, которые играют решающую роль в наших моральных откликах на многие ситуации: родительские обязательства, например, касаются не только действий, но чувств и заботы, с которыми эти действия совершаются. Полагать, что обязательства исходят из автономии, но при этом понимать автономию как нечто исключительно когнитивное — подобный взгляд делает данный подход уязвимым перед обвинением такого рода.
Сложность этой критической позиции заключается в двусмысленности самоописания, которое мы можем использовать при оценке нашей «человечности» — нашей способности вменять обязательства самим себе, поскольку мы можем размышлять о нашей способности принятия решений и оценивать ее положительно (и как нечто основополагающее), но полагать при этом, что «Я» участвует в ней различными способами. Кантианская модель такого «Я» является чистым познающим субъектом — рефлексивным агентом, который пользуется практическим разумом. Но в принятии решения участвуют также наши страсти — эмоции, желания, чувственные привязанности, чувства симпатии и антипатии, отчуждения и комфорта. Они составляют как предмет нашего суждения, так и его часть — страстное принятие одного из предложенных вариантов отличается от бесстрастного выбора наилучшего. Во время принятия решения во всех таких страстях присутствует суждение. И суждение следует понимать не как нечто отдельное от страстей, но как способность вовлекаться в те действия, которые мы страстно и разумно поддерживаем.
Поэтому, когда принятие оптимального решения определяется страстью, я должен оценить свою способность испытывать правильные страсти, а не только способность хладнокровного рассуждения и выбора. Помещать страсти вне сферы разумной рефлексии в качестве всего лишь вспомогательного качества действия — то есть рассматривать то, как нечто следует сделать, а не просто то, что мы делаем — значит принять один тип решения. Помещать страсти внутри этой сферы — то есть говорить, что в данный момент действовать правильно значит действовать с определенным аффектом или страстью — значит принимать другое решение. Когда мы делаем выводы из способности принимать решения последнего типа, то мы должны оценивать не только способность взвешивать варианты и обобщать их, но также способность задействовать правильные аффекты, эмоции и т.п.
Следовательно, мы оцениваем самих себя и других как страстно рассуждающих, а не просто как рассуждающих как таковых.
Смысл этого наблюдения состоит в том, что при обобщении наших суждений способом, который предлагает Корсгиард (следуя Канту), мы не должны брать на себя обязательство оценивать только когнитивные способности человечества, но также и (относительно) субъективные элементы. Это напрямую связано с природой автономии, поскольку вопрос состоит в том, зависит ли моральное обязательство, покоящееся на аффективных элементах и содержащее их, от концепции автономии и включены ли аффективные элементы в типы рефлексивных суждений, которые формируют их ядро.
Второй вопрос: поскольку рефлексия, которая входит в состав автономии (и которая, согласно этой позиции, служит источником нормативности), должна быть только гипотетической рефлексией над желаниями и ментальными способностями, то возникает вопрос — при каких условиях возникает эта гипотетическая рефлексия? Если способность к рефлексии есть источник обязательства, то мы должны спросить, являются ли условия, при которых происходит такая гипотетическая рефлексия, в каком-то смысле идеализированными — если, например, они предполагаются резонными. Рассматриваем ли мы только размышления, которые произвел бы (действительный) человек, обрати он внимание на вопрос, независимо от того, насколько нерезонными являются такие размышления? Если это так, то почему мы должны считать их основанием обязательств? Если мы полагаем, что они обоснованы, тогда при определенных условиях моральные обязательства налагаются не мною самим, а идеализированным, более рациональным «Я». Это подразумевает, что мы не в буквальном смысле устанавливаем себе мораль, если под «Я» имеется в виду фактический набор суждений, которые выносит агент. Действительно, тот, что рассматривает моральные ценности в платоническом и/или реалистическом ключе, мог бы сказать, что объективные ценности, которые (по теории) применяются ко всем агентам независимо от их выбора, на самом деле «установлены самим собой» в этом идеализированном смысле: они были бы установлены им самим, если бы он предварительно над ними размышлял, действуя как полностью рациональный агент. Таковы сложные и потенциально проблематичные места данной двусмысленности.
Отсюда возникает следующий вопрос: может ли автономия выступать источником морального обязательства и уважения, если она понимается в чисто процедурном смысле. Если в концепцию автономии мы не включаем субстантивные обязательства или ценностные ориентации, то неясно, как эта способность может фундировать какое бы то ни было субстантивное ценностное обязательство.
С другой стороны, если одним из условий автономии является спецификация конкретных ценностей — например, автономная личности должна ценить свою свободу, — тогда оказывается, что моральное обязательство (и уважение) относится только к тем, кто уже придерживается подобного образа действий, но не ко всем рациональным агентам в целом (как традиционно представляется). Разумеется, здесь мы слышим отзвук гегелевской критики Канта.
Эти трудности указывают на двусмысленности в моральной позиции, основанной на автономии, которые вполне могут быть прояснены в дальнейшем развитии этих теорий. Они также указывают на традиционные проблемы кантианской этики (хотя есть много схожих сложностей, которые здесь не представлены). Прежде чем покинуть область моральной философии, мы должны рассмотреть этическую позицию, которая сосредоточена на автономии, но не зависит напрямую от кантианства.
Автономия как предмет ценности
Автономия может иметь значение для моральной философии без того, чтобы обладать чисто кантианской структурой. Например, можно утверждать, что личная автономия имеет внутреннюю ценность, которая не зависит от проработанной концепции практического разума. Следуя Джону Стюарту Миллю, можно утверждать, что автономия является «одним из элементов благосостояния» (Mill 1859/1975: ch. III). Рассмотрение автономии как внутренней ценности или основополагающего элемента личного благосостояния открывает возможность, как правило, для консеквенциалистских моральных принципов, в то же время уделяется внимание важности самоуправления для полноценной жизни (см. Sumner 1996).
Также может быть неясно, почему автономия — рассматриваемая здесь как способность рефлексировать над собственными ценностями, характером и обязательствами и их одобрять — должна оцениваться независимо от результатов использования способности. Почему автономия личности имеет внутреннюю ценность, когда ею пользуются, скажем, для нанесения вреда самому себе или для опрометчивого или дурного с точки зрения морали выбора? В более общем смысле — как мы можем учитывать систематические предубеждения и искажения, которые наносят ущерб размышлению, сопровождающему оценивание человеческой способности принимать решения за самого себя (см., напр., Conly 2013)? Этот вопрос становится более острым, когда мы начинаем размышлять о степенях автономии, поскольку неясно, почему личная автономия должна рассматриваться как одинаково ценная в индивидах, демонстрирующих разную ее степень (или различные степени этих способностей, которые являются ее условиями, такие как рациональность).
Следует отметить, что автономия часто считается основанием для того, чтобы относиться к индивидам как к равным с моральной точки зрения. Но если степень автономии может быть различной, то эта приверженность моральному равенству становится проблематичной (Arneson 1999). Поскольку способности, которые требуются для автономии, такие как рациональная рефлексия, умение реализовывать свои решения и т.п., различны у различных индивидов (а также в рамках видов или между видами), то трудно говорить о том, что все автономные существа имеют равный моральный статус или их интересы имеют одинаковый вес при принятии решений, которые их затрагивают.
С моей точки зрения, здесь следует принять интерпретацию кантианства, предложенную Корсгиард, и аргумент, согласно которому наши рефлексивные способности являются предельным основанием нашего обязательства в отношении других и, в свою очередь, обязательств других относиться к нам как к морально равным.
Однако Арнессон утверждает, что люди очевидно различаются в этой своей способности — способности рефлексивно рассматривать варианты и делать разумный выбор. Напомним, что мы говорили выше о двусмысленностях подхода Корсгиард относительно степени идеализации саморефлексии, которая лежит в основе обязательства. Если так, то моральным статусом нас наделяет отнюдь не повседневная способность смотреть внутрь себя и делать выбор, но более редкая в некотором смысле способность делать это рационально. Но мы, разумеется, отличаемся друг от друга в способности достигать идеала, так почему наша автономия должна считаться равноценной?
Ответ может заключаться в том, что наши нормативные обязательства не возникают из наших актуальных способностей рефлексии и выбора (хотя мы должны обладать такими способностями в минимальной степени), но из способа, которым мы должны рассматривать себя как имеющих подобные способности. Мы придаем особый вес нашим прошлым и настоящим решениям, так что мы можем продолжить наши проекты и планы, которые выполняем (при прочих равных условиях) потому, что мы их создали — они наши, по крайней мере когда мы их выполняем после некоторого рефлексивного обдумывания. Преимущество в том, что наши собственные решения в наших актуальных проектах и действиях могут быть объяснены только через предположение, что мы присваиваем статус и ценность некоторым решениям просто потому, что рефлексивно создаем их (возможно, в свете внешних, объективных соображений). Стало быть, эта способность лишена степеней и, следовательно, ее может быть достаточно для обоснования равного статуса, даже если, по всей вероятности, в реальной жизни мы реализуем эту способность в различной степени. Многое написанное о концепциях благосостояния повторяет эти тревоги (см. Sumner 1996, Griffin 1988). Такой взгляд может быть подкреплен идеей о том, что приписывание автономной агентности и уважения, которое якобы следует за ней, является само по себе нормативной позицией, а не просто наблюдением за тем, как человек действительно думает и действует (дальнейшее обсуждение этой позиции см. в работах Christman 2005 и Korsgaard 2014).
Автономия и патернализм
Автономия является личным свойством, которое препятствует чрезмерному патернализму. Патерналистские вмешательства могут быть одновременно межличностными (регулируемыми социальными или моральными нормами) и политическими (опосредованными формальными и юридическими правилами). Такие вмешательства определяются не видами действий, с помощью которых они осуществляются, но способами их обоснования. Так что патернализм предполагает вмешательство в действия или знания человека против его воли во имя его блага. Уважительное отношение к автономии предназначено для того, чтобы пресекать такие вмешательства, потому что они предполагают суждение, в соответствии с которым человек не способен сам решить для себя, как самым лучшим образом реализовать собственное благо. Автономия — способность принимать решения, так что для автономного субъекта такие патерналистские вмешательства оказываются неуважением к его автономии. См. также статью «Патернализм».
Но как показало наше обсуждение природы автономии, часто остается неясным, что именно подразумевает такая характеристика. Важным в этом контексте является вопрос о том, может ли автономия иметь степени — приобретаются ли способности и возможности сразу и навсегда или же постепенно. В последнем случае неясно, оправдан ли полный запрет патернализма. Некоторые люди окажутся менее способны принимать решения о том, что является их собственным благом, следовательно, они будут с большей вероятностью (и более обоснованно) становиться объектами патерналистского вмешательства (Conly 2013).
Зачастую такое обязательство по отношению к другому человеку требует от нас относиться к нему как к автономному субъекту независимо от того, в какой степени он в действительности автономен относительно совершаемого им выбора. По крайней мере это верно в том случае, когда автономия субъекта превосходит некоторый уровень: он является взрослым, не подвержен влиянию пагубных факторов и т.п. Я могу знать, что человек в определенной степени находится под влиянием внешнего давления, которое сильно ограничивает его способность управлять собственной жизнью и совершать независимый выбор. Но покуда он не теряет базовую способность рефлексивно взвешивать свои возможности и совершать выбор, если я вмешаюсь в его волю (для его же собственного блага), я проявлю к нему как личности меньше уважения, чем если бы позволил ему совершить собственные ошибки. (Разумеется, отсюда еще не следует, что вмешательство в таких случаях не может быть в конечном итоге оправдано; здесь лишь нечто утрачивается, и это — степень межличностного уважения, которое мы проявляем по отношению к друг другу.)
Однако, как мы говорили в последнем разделе, данный шаг зависит от определения базовой автономии и доказательства того, что такое ограничение не является произвольным. Также релевантным здесь является вопрос о сравнении процедурной и субстантивной автономии как основания для запрета патернализма. Поскольку если под автономией мы полагаем способность управлять самим собой независимо от того, насколько искаженными или морально никчемными являются осуществляемые возможности, то неясно, сохраняет ли ограничение на патернализм (и уважение к людям в целом) свою нормативную силу. Как я отметил выше, ответ на данный вызов должен состоять в том, что способность самостоятельно принимать решение является непроизводной ценностью, независимой от содержания этих решений, по меньшей мере если кто-то хочет избежать трудностей, возникающих в случае постулирования концепции субстантивной (и, следовательно, не-нейтральной) автономии как основания для уважения другого.
Мы лишь представили ряд примеров того, как мыслится автономия в моральной философии. Здесь не обсуждаются области прикладной этики, например, медицинской, где уважение к автономии устанавливает такие принципы, как принцип информированного согласия. Такие контексты иллюстрируют фундаментальную ценность, которую автономия, как правило, имеет в качестве выражения одного из основоположений моральной индивидуальности.
Автономия в социальной и политической философии
Автономия и основы либерализма
Концепция автономной личности играет различные роли в различных конструкциях либеральной политической теории (см. недавние обсуждения, напр., работу Coburn 2010 и эссе в сборнике Christman and Anderson, eds. 2005). Главным образом она служит моделью человека, чья точка зрения используется для формулирования и обоснования политических принципов, таких как принципы справедливости в общественном договоре (Ролз 2010). Также (и соответственно) она служит моделью гражданина, чьи основные интересы отражены в этих принципах, таких как идея, что основные свободы, возможности и другие высшие блага являются основополагающими для благой жизни, независимо от моральных обязательств, жизненных планов или других частностей, которые человек может достичь (Kymlicka 1989: 10–19; Waldron 1993: 155–156). Кроме того, автономия приписывается лицам (или проецируется как идеал) для того, чтобы подчеркнуть и раскритиковать угнетающие социальные условия, освобождение от которых составляет фундаментальную цель справедливости (независимо от того, является ли эта критика частью либеральной традиции или, напротив, оппонирует ей). (Ср. Keornahan 1999, Cornell 1998, Young 1990, Gould 1988; ср. также Hirschmann 2002: 1–29.)
Для наших целей под либерализмом мы будем понимать такой взгляд на политическую власть и социальную справедливость, который определяет принципы права (справедливости) до определения понятия блага и в значительной степени независимо от него (см. «Либерализм»; см. также Christman 2002: ch. 4). В таком случае либеральная концепция справедливости и легитимация политической власти в целом могут быть уточнены и обоснованы без ключевого соотнесения их с противоречивыми концепциями ценности и моральных принципов («всеобъемлющими моральными концепциями», как называет их Ролз) (Rawls 1993: 13–15). Тот факт, что в таких моральных понятиях всегда присутствует плюрализм, является поэтому центральным для либерализма.
Вопрос, который здесь следует поставить, состоит в том, должно ли понятие автономии, использующееся в либеральной теории, само по себе пытаться быть нейтральным в отношении различных концепций морали и ценности или, наоборот, делает ли опора на автономию — при обосновании и уточнении либеральных теорий справедливости — данные теории нейтральными просто ввиду себя самой (неважно, насколько «нейтральной» оказывается используемая концепция автономии).
Давайте рассмотрим первый вопрос и таким образом вернемся к следующей проблеме: как лучше всего следует понимать независимость, подразумеваемую в автономии, процедурно или субстантивно? Напомним, что ряд теоретиков полагает, что автономия требует минимальной компетенции (или рациональности) наряду с подлинностью, где последнее условие понимается как возможность рефлексивно подтверждать некоторые черты своего «Я» (или не быть отчужденным от них). Данный взгляд может быть назван «процедурным», потому что он требует, чтобы процедура, посредством которой человек признает желания (или свои черты) своими собственными, имела решающее значение в определении его подлинности и, следовательно, автономии. Сторонники такой концепции обосновывают ее тем, что ее принятие является единственным способом гарантировать нейтральность автономии по отношению ко всем понятиям ценностей и благ, усваиваемых разумным взрослым человеком (Dworkin 1989).
Критики этой позиции отметили случаи, где люди принимают то, что мы назвали бы угнетающими и сильно стесняющими жизненными ситуациями, но при этом с точки зрения процедуралистского понимания автономии такое принятие отвечает минимальным условиям автономии, так что, согласно таким подходам, эти люди считаются автономными в виду процесса самоуправления, с помощью которого они вступили в угнетающие условия. Критики утверждают, что любая концепция автономии, приписывающая людям такую черту, построена неверно (Benson 1987, MacKenzie & Stoljar 2001b, Waller 1993, Oshana 1998, Stoljar 2000). На этом основании они утверждают, что нормативно-субстантивные условия, такие как способность признавать определенные моральные или политические нормы и следовать им, должны быть добавлены к требованиям автономии (см. Benson 1987, Wolf 1980; критику см. в Berofsky 1995: ch. 7). Критическая позиция предполагает, что оценка собственной автономности не избегает вопросов об идентичности и, следовательно, о том, может ли «самость» или «Я», предполагаемое понятием самоуправления, рассматриваться независимо от (возможно, социально установленных) ценностей, посредством которых люди понимают самих себя. Это и есть тот сюжет, к которому мы теперь переходим.
Индивидуальность и понятие «Я»
Автономия, как мы ее описываем, парадигматически атрибутируется отдельным людям. При таком употреблении автономия не является свойством группы или людей. Таким образом, автономия, которая обосновывает базовые права и которая связана с моральной ответственностью, — как предполагается данным понятием, — приписывается людям без сущностной отсылки к другим людям, институтам или традициям, внутри которых они могут жить и действовать. Однако критики утверждают, что такой взгляд идет вразрез с тем способом, каким многие из нас (или все мы в некотором смысле) определяют самих себя, и, следовательно, проблематично расходится с представлениями об индивидуальности, которые мотивируют действие, обосновывают моральные обязательства и через которые люди формулируют свои жизненные планы. Утверждается, что автономия подразумевает способность к полной рефлексии самого себя, принятие или отвержение некоторых ценностей, изменение деталей собственной жизни по своему желанию. Но мы все не только глубоко укоренены в социальных отношениях и культурных паттернах, мы, как некоторые утверждают, также и определяемся этими отношениями (Sandel 1982: 15–65). Например, при рефлексии мы используем язык, но язык сам по себе является социальным продуктом и прочно связан с разнообразными культурными формами. В любом случае мы образованы теми факторами, которые лежат по ту сторону нашего рефлексивного контроля, но которые тем не менее структурируют наши ценности, мысли и побуждения (Taylor 1991: 33ff; см. Bell 1993: 24–54). Можно сказать, что мы автономны (и морально ответственны, обладаем моральными правами и т.д.) только тогда, когда мы можем отступить от всех этих связей, критически оценить и по возможности изменить их, бросив вызов психологической и метафизической реальности.
Другие критики утверждали, что либеральное понятие личности, отраженное в стандартной модели автономии, особым образом подчеркивает глубокие связи, образующие идентичность, через которые мы выделяем гендер, расу, культуру, религию среди других вещей. Такие «плотные» идентичности не являются центральными для понимания самоуправляемой личности, которая, согласно стандартной либеральной модели, в состоянии либо полностью абстрагироваться от таких деталей представления себя, либо идентифицировать себя с ними, либо отвергнуть их. Но такие идеалы узко оценивают жизнь космополитического «человека» — всемирного странника, который свободно выбирает, поселиться ли ему в этом сообществе, либо отождествить себя с этой или другой группой и т.д. (см. Young 1991, Alcoff 2006 и Appiah 2010; см. также обсуждение в работе Meyers 2000b).
Эти вызовы также сосредоточены на отношении «Я» к культуре, в которой оно проживает (Margalit and Raz 1990, Tamir 1993). То, что является вопросом с точки зрения политики, так это особое значение самоуправления индивида, которое влечет за собой космополитическую перспективу и делает затруднительным, если не невозможным, обоснование права на защиту и внутреннее самоуправление самих традиционных культур (Kymlicka 1995). Оно проблематично потому, что исключает из дальнейшей защиты либеральной политики тех индивидов и те группы, чьи самопредставление и ценности являются глубоко укорененными в культурных факторах. Или, наоборот, допущение о том, что автономная личность способна отделить себя от всех культурных обязательств, предвосхищает шаг к обеспечению государственной защиты культурных форм, поскольку такая государственная политика опирается на ценности автономии.
Есть множество ответов на такие обвинения со стороны либеральной позиции (напр., Kymlicka 1989, Gutman 1985, Appiah 2005; полный ответ на вопрос о культурных идентичностях см. в работе Kymlicka 1997). Самый сильный ответ заключается в том, что автономия не требует, чтобы люди имели возможность отойти от всех своих связей и ценностей, а также критически их оценивать. Все, что требуется, — частичная рефлексия. Как отмечает Кимлика: «Общество не ставит перед нами никаких конкретных задач, и никакие особенные культурные практики не обладают авторитетом, который не подлежит индивидуальному суждению и возможному отказу» (Kymlicka 1989: 50).
Однако здесь требуется некоторое пояснение. Поскольку защитники либеральных принципов (опирающихся на ценности автономии) утверждают, что все аспекты самопредставления личности подлежат перестройке согласно принципу автономии, то они без всякой необходимости преувеличивают обязательства либеральной позиции. Такую позицию легко обвинить в том, что либеральная концепция не принимает всерьез постоянные и неизменные аспекты «Я» и его социальную позицию (Young 1990: 46).
Например, мы лишь незначительно можем изменить нашу телесность, а также многие из факторов, касающихся самоопределения, таких как сексуальная ориентация (для некоторых), родной язык, культура, раса не всегда подвергаются манипуляции и трансформации, даже частично. Сказать, что по этой причине мы гетерономны, было бы очень проблематично. Защитник либерализма с опорой на автономию должен заявить, что рассматриваемая способность есть изменение представлений о самом себе, которые глубоко отчуждены (или с которыми мы не отождествляемся и т.п.). В тех случаях, когда при размышлении человек переживает свое тело, культуру, расу или сексуальность в качестве внешнего бремени, ограничивающего более подлинную природу, и все равно не может изменить этот фактор, у него нет автономии относительно этих факторов (см. Christman 2001, 2009: ch. 6). Но если человек чувствует себя в полной мере комфортно в таких неизменных заданных параметрах, то он не испытывает недостатка автономии.
Реляционная автономия
Несколько авторов утверждали, что сторонник процедурного подхода к автономии ошибочно припишет автономию тем людям, чья ограниченная социализация и унижающие жизненные условия принуждают их усваивать репрессивные ценности и нормы. Например, женщины, которые убеждены в социальном авторитете мужа или в том, что только с рождением и воспитанием детей их жизнь будет действительно полной и т.п. Если эти женщины станут рефлексировать над такими ценностями, то они вполне могут принять их, даже если они не свободны от каких-либо особых препятствий к рефлексии над ними. Однако критики утверждают, что этим женщинам определенно не хватает автономии. Таким образом, данное понятие будет полезно в описании репрессивных условий патриархального общества только в том случае, если понятие автономии предполагает требование быть способным распознавать базовые ценностные утверждения, такие как равный моральный статус личности (см., напр., Oshana 1998, Stoljar 2000; см. Christman 1995, Benson 1990, Friedman 2000, Meyers 1987, 1989).
Эти и связанные с ними соображения побудили некоторых разработать альтернативную концепцию автономии, предназначенную для замены якобы слишком индивидуалистических концепций. Такую альтернативу назвали «реляционной автономией» (MacKenzie and Stoljar 2000a). Под влиянием феминистской критики традиционных понятий автономии и прав (Nedelsky 1989, Code 1991) реляционное понятие автономии подчеркивает неустранимую роль, которую соотнесенность с другими играет и в представлениях человека о самом себе, относительно которых следует определять автономию, и в динамике обсуждения (делиберации) и размышления. Такие подходы предлагают провокационную альтернативу традиционным моделям автономного индивида, но они должны прояснить, какую позицию следует занять в данном вопросе. С одной стороны, реляционные подходы могут приниматься как основанные на неиндивидуалистическом понятии личности, и в таком случае в них будет утверждаться, что, поскольку автономия есть самоуправление, а «Я» конституировано отношениями с другими, автономия является реляционной. Или их следует понимать как утверждение о том, что, чем бы ни было «Я», автономия фундаментально включает социальные отношения, а не только индивидуальные черты (Oshana 2006). Также некоторые подходы отказываются от утверждения, что социальные и личные отношения играют ключевую роль в развитии и использовании автономии, и утверждают, что такие отношения конституируют автономию (см. Mackenzie and Stoljar 2000b: 21–26; см. недавний обзор Mackenzie 2014).
Другой реляционный элемент автономии соединяет социальную поддержку и признание статуса личности с ее способностью к уверенности в себе, самоуважению и чувству собственного достоинства. Ключевой аргумент в этих подходах состоит в том, что автономия требует способности эффективно действовать, основываясь на собственных ценностях (либо как индивид, либо в качестве члена социальной группы). Но подобным способностям угрожают репрессивные социальные условия, отнимая у человека чувство уверенности в себе, требующееся для эффективного действия. Для полноценного использования способностей требуется, чтобы чувство уверенности в себе имело социальное признание и/или поддержку (см. Anderson and Honneth 2005, Grovier 1993, Benson 2005, McCleod and Sherwin 2005, Westlund 2014).
Эти утверждения часто сопровождаются отказом от якобы ценностно-нейтральных процедуралистских подходов к автономии и даже тех, которые пытаются примириться с полностью социальной концепцией «Я». Один из вопросов, возникающих в связи с реляционным пониманием веры в себя, состоит в том, почему такие отношения считаются концептуально основополагающими для автономии, а не просто содействующими ей (и ее развитию), где самоуверенность или вера в себя, о которых идет речь, являются ключевым элементом, в который данные социальные отношения вносят значительный (хотя и случайный) вклад. Другой вопрос, который предстоит рассмотреть, возникает в тех случаях, где вера в себя устанавливается, несмотря на отсутствие общественного признания, например, как в случае беглых рабов, которым удавалось стремиться к свободе в ситуации, где окружающие их люди (и социальные структуры) отрицали за ними статус полноценных человеческих чувств, способных принимать подлинные решения. В конце концов, уверенность в себе не всегда бывает заслуженной: рассмотрим наглого подростка, который настаивает на реализации социальной независимости, опираясь на необоснованную уверенность в своих способностях выносить верные суждения (см. Mackenzie 2008: n36).
Тем не менее эти подходы значительным образом изменили философское понимание автономии, перенаправив фокус на социальную и межличностную динамику, которая задает способы ее использования, связывая идеи автономии с более широкими вопросами о социальной справедливости, признании и социальных практиках. Мы возвращаемся, таким образом, к рассмотрению либеральных проектов и их потенциальных ограничений, где автономия занимает центральное место.
Автономия, либерализм и перфекционизм
Как было отмечено ранее, имеются различные версии либеральной политической философии. Однако все из них принимают понятие политической легитимности, где политическая власть и авторитет оправданы только в том случае, если такой авторитет устраивает всех связанных им граждан (см. Rawls 1993: 144–150). Это связано с более широким воззрением на основания ценностей, которое по меньшей мере некоторые либеральные теоретики считают центральным для данной традиции. Оно состоит в утверждении, что ценности действительны для личности, только если они одобрены или могут быть достаточно одобрены индивидом. В более широком смысле принципы, определяющие работу институтов социальной и политической власти — того, что Ролз называет институтами базовой структуры (Rawls 1993: 258) — являются легитимными, только если они могут быть одобрены теми, кто им подчиняется. Таким образом, либерализм (в большинстве своих проявлений) склонен к тому, что некоторые авторы называют «ограничением [власти] через одобрение [граждан]» (Kymlicka 1989: 12ff; R. Dworkin 2000: 216–218).
Модели автономии, рассмотренные выше, включают условие, отражающее это ограничение, в котором личность является автономной относительно некоторой руководящей действием нормы или ценности, только при условии, что, критически осмысливая эту ценность, она отождествляет себя с ней, одобряет ее или не чувствует себя глубоко отчужденной от нее. Объединяя такой взгляд с ограничением через одобрение, либерализм подразумевает, что автономия соблюдается только тогда, когда господствующие в обществе ценности или принципы могут быть некоторым образом приняты теми, кто им подчиняется. Это напрямую связано с либеральной теорией легитимности, которая будет обсуждаться ниже.
Перфекционисты отвергают такие утверждения. Перфекционизм — это точка зрения, согласно которой ценности, действенные для индивида или популяции, имеются даже тогда, когда с субъективной точки зрения агентов или группы ценности не одобряются или не поддерживаются (Wall 1998; Sumner 1996: 45–80; Hurka 1993; Sher 1997; см. также «Перфекционизм»). Иными словами, согласно этой точке зрения имеются совершенно объективные ценности. Хотя и существуют либералы-перфекционисты, такая точка зрения, как правило, противопоставляется либеральному утверждению, что автономное принятие главных компонентов политических принципов является необходимым условием для легитимации принципов. Более того, перфекционисты оспаривают либеральную нейтральность в формулировке и применении политических принципов (Hurka 1993: 158–160).
Перфекционисты критикуют главным образом проводимую либералами связь между уважением к автономии и нейтральностью политических принципов (Wall 1998: 125–204). По мнению многих, либерализм основывается на ценности индивидуальной автономии, но эта связь предполагает, что в либерализме уважение к автономии является всего лишь одной ценностью среди прочих или что автономия обладает первостепенным значением. В любом случае нейтралитет не поддерживается. Например, если автономия — лишь одна из ценностей среди прочих, то наступит время, когда государственная поддержка других ценностей возобладает над уважением к автономии (напр., патерналистские ограничения налагаются для обеспечения гражданской безопасности) (Sher 1997: 45–105; Hurka 1993: 158–160).
С другой стороны, автономию можно рассматривать как абсолютное ограничение пропаганды ценностей или, вероятнее всего, как основополагающее условие легитимности всех ценностей для личности, как предполагает принцип ограничения через одобрение. Однако перфекционист ответит, что это сама по себе спорная ценностная позиция, которая может не найти достаточно широкой поддержки (Hurka 1993: 148–152; Sher 1997: 58–60; Sumner 1996: 174–183; ср. Griffin 1986: 135–136). Отвечая на вопрос, нужно обратиться к рассмотрению либеральных принципов легитимности, поскольку утверждение либералов относительно пределов, в которых государству дозволяется навязывать некое благо — ограничения, накладываемые уважением к автономии, — сильно зависит от их взгляда на высшие основания политической власти.
Автономия и политический либерализм
Обычно считается, что либерализм исторически возник из политико-философской традиции общественного договора и, таким образом, основывается на идее народного суверенитета. Понятие автономии располагается в центре по крайней мере одной господствующей ветви в этой традиции, которая проходит через Канта. Главная альтернативная версия либеральной традиции рассматривает народный суверенитет как базовое коллективное выражение рационального выбора и полагает, что принципы основных институтов политической власти играют лишь инструментальную роль в максимизации совокупного благосостояния граждан (или, согласно Миллю, в целом рассматриваются в качестве конститутивного элемента благосостояния).
Однако именно кантианская разновидность либерализма ставит в центр автономию личности. «Теория справедливости» Ролза рассматривалась как современное выражение кантианского подхода к справедливости, в котором справедливость понималась как принципы, которые должны быть выбраны в условиях объективно-рационального принятия решений (из-за завесы неведения). Исходная позиция, в которой такие принципы должны быть выбраны, говорит Ролз, отражает категорический императив Канта. То есть это механизм, с помощью которого люди могут в каком-то смысле избрать для себя принципы, которые не зависят от случайностей социальной позиции, расы, пола или концепции блага (Ролз 2010: 223–229). Но, как хорошо известно, то обстоятельство, что теория справедливости Ролза опирается на кантианские основания, делает ее уязвимой перед обвинением, что она не применима к группам (в действительности, ко всем современным группам), в которых царит глубокий моральный плюрализм. Ведь при таких условиях никакая теория справедливости, опирающаяся на метафизическое понятие личности, не может требовать полной лояльности от членов группы, чьи глубокие различия (diversity) заставляют их не соглашаться относительно метафизики как таковой, так же как и с моральными убеждениями и связанными с ними представлениями о ценностях. По этой причине Ролз разработал новое (или развил старое) понимание оснований его версии концепции политического либерализма (Rawls 1993).
В политическом либерализме автономия людей принимается не как метафизически фундированный «факт» относительно моральной индивидуальности или практического разума как такового, но, скорее, как один из нескольких «механизм[ов] репрезентации», при которых отличные друг от друга граждане могут сосредоточиться на методах получения (таких как исходное положение) субстантивных принципов справедливости (Rawls 1999: 303–358). Справедливость достижима только тогда, когда перекрывающий консенсус среди людей движим хотя и глубоко различными, но все же разумными и всеобъемлющими моральными взглядами. Это консенсус, в котором граждане могут утверждать принципы справедливости в рамках подобных всеобъемлющих взглядов.
Политический либерализм смещает фокус с философского понятия справедливости, сформулированного абстрактно и подразумевающего универсальное применение, к практическому понятию легитимности, в котором достижение консенсуса не требует, чтобы рассматриваемые принципы имели глубокое метафизическое основание. Будучи чем-то большим, нежели modus vivendi [временным соглашением] для участвующих сторон, справедливость должна быть подтверждена таким образом, чтобы стать моральным базисом для всех участвующих граждан, придерживающихся различных ценностей и моральных обязательств. Публичный разум и делиберация, следовательно, служат средством, с помощью которого может быть установлен консенсус, а следовательно, общественная дискуссия и демократические институты должны рассматриваться как составная часть обоснования принципов справедливости, а не просто как механизм коллективного определения общественного блага.
Но роль автономии в уточнении этой картины не должна переоцениваться (либо не должны игнорироваться противоречия, которые она порождает). Подобный консенсус считается легитимным только тогда, когда он достигнут в условиях свободного и подлинного утверждения общих принципов. Только если граждане рассматривают самих себя как вполне способных рефлексивно одобрять или отвергать такие общие принципы, делать это компетентно, будучи достаточно информированными и располагая различными вариантами выбора, перекрывающий политический консенсус может выйти за рамки стратегических динамик временных соглашений и стать основанием легитимных институтов политической власти.
Поэтому социальные условия, которые мешают равному использованию возможностей рефлексивно рассматривать и (при необходимости) отвергать принципы социальной справедливости в силу, скажем, крайней бедности, недееспособности, несправедливости, неравенства и т.п., ограничивают установление справедливых принципов. Автономия, таким образом, в той степени, в какой понятие акцентирует свободный рефлексивный выбор при установлении легитимности, является основой даже таких нефундаменталистских (политических) концепций справедливости и предполагается ими.
Критика политического либерализма исходит из нескольких направлений. Однако среди возражений против автономии есть и те, которые ставят под сомнение, что политическое понятие легитимности, основанное на общих ценностях, может поддерживаться без того, чтобы эти ценности считались объективными и фундаментальными — позиция, которая оспаривает мнимый плюрализм политического либерализма. В противном случае граждане с глубоко конфликтующими мировоззрениями не могут поддерживать ценность автономии кроме как в качестве простого временного соглашения (см., например, Wall 2009; ср. также Larmore 2008: 146–6). Один из возможных ответов на эту проблему может состоять в утверждении, что ценности, составляющие автономию (в одной из трактовок данного понятия), уже реализуются в социальной структуре и культурных или иных демократических практиках (а также в некоторых критических проектах, выявляющих угнетение и господство, как мы уже показывали выше). Возникает вопрос, к которому мы сейчас и обратимся, о связи автономии, политического либерализма и демократии.
Автономия, справедливость и демократия
Завершая статью, мы должны сказать о последствиях политического либерализма для традиционного разделения между либеральной справедливостью и демократической теорией. Я говорю здесь о «разделении», но различные взгляды на справедливость и демократию будут предлагать довольно несходные представления об их отношениях (см. Christiano 1996, Lakoff 1996). Но традиционно в либеральных концепциях справедливости демократические механизмы коллективного выбора рассматриваются как неотъемлемые, но сильно ограниченные конституционными положениями, которые поддерживают принципы справедливости. Индивидуальные права и свободы, равенство перед законом и различные привилегии и протекции, связанные с гражданской автономией, защищены принципами справедливости, а значит, согласно такому подходу, не подлежат демократическому пересмотру (Gutmann 1993).
Однако либеральные концепции эволюционировали (по крайней мере в некоторой степени) и стали включать в перечень конститутивных условий легитимности коллективные дискуссии и дебаты (публичный разум). Можно утверждать, что основные допущения по поводу способности граждан к рефлексивному обсуждению и выбору — автономии — должны быть частью исходных условий, в которых должен осуществляться перекрывающий консенсус или другой вид политического согласия относительно принципов справедливости.
Некоторые мыслители, в особенности Хабермас (Habermas 1994), указывали на значимость связи между индивидуальной, или «частной», автономией и коллективной, или «публичной», легитимностью. С этой точки зрения легитимность и справедливость не могут быть заранее установлены путем философского доказательства, как предполагалось в традиции естественного права, в которой процветала классическая теория общественного договора и которую унаследовала (в различных формах) современная перфекционистская либеральная позиция. Скорее, справедливость составляет собой набор принципов, установленных на практике и ставших легитимными благодаря действительной поддержке вовлеченных граждан (и их представителей) в процессе коллективного обсуждения (см., напр., Fraser 1997: 11–40; Young 2000). Системы прав и протекций (частной, индивидуальной автономии) будут с необходимостью защищаться для того, чтобы институализировать концептуальные рамки общественного обсуждения (и особенно законодательную деятельность и конституционные толкования), которые делают принципы социальной справедливости приемлемыми для всех вовлеченных лиц (через переговоры с другими) (Habermas 1994: 111).
Такой взгляд на справедливость, если он вообще приемлем, опосредованным образом защищает автономию и, в частности, включает в понятие автономии рефлексивное самооценивание. Поскольку публичная защита и обсуждение конкурирующих понятий справедливости могут иметь место лишь тогда, когда граждане, участвующие в публичном общении, важной составляющей которого является справедливость, могут, как предполагается, иметь способности (и базовые ресурсы для обладания ими) к компетентной саморефлексии (ср. Gaus 1996: pt. II–III; Gaus 2011). Поскольку автономия необходима для функционирования демократии (которая рассматривается достаточно широко), а демократия является конститутивным элементом справедливых политических институтов, автономия должна быть рассмотрена как рефлексивная самооценка (и, я бы добавил, не-отчуждение от центральных аспектов своей личности) (см. Cohen 2002, Richardson 2003).
Такой подход к справедливости и автономии, изложенный здесь в грубой и общей форме, несомненно сталкивается с критикой. В частности, теоретики, занятые многомерной природой социального и культурного «различия», подчеркивают, что понятие автономной личности, предполагаемое такими принципами (как и критериями рационального дискурса и публичной делиберации), является оспоримым идеалом, который не интериоризируется всеми участниками в современной политической жизни (см., напр., Brown 1995, Benhabib 1992). Другие, опирающиеся на постмодернистские представления о природе «Я», рациональности, языка и идентичности, также сомневаются в том, что базовые понятия либеральных теорий справедливости (например, понятие автономии) являются устойчивыми, прозрачными и лишены собственных политических пресуппозиций (см., напр., Butler 1990; общее обсуждение см. в White 1990).
Представленные здесь обвинения слишком общи, чтобы дать им адекватный ответ в этом контексте. Однако вызов сохраняет свою силу для любой теории справедливости, которая опирается на предпосылку о том, что автономия является главным нормативным понятием. Чтобы быть правдоподобной в различных плюралистических социальных условиях, такая позиция должна избежать двойного зла: с одной стороны, (резонно) оспариваемая ценность не должна насильственно навязываться сопротивляющимся ей гражданам, с другой стороны, нельзя просто отказываться от всех нормативных концепций социального порядка в пользу борьбы за власть с неизвестным исходом. Я полагаю, что точка зрения, согласно которой индивидов следует считать автономными в одном из минимальных представленных здесь смыслов, будет центральным элементом любой политической позиции, дрейфующей между Сциллой репрессивных форм перфекционизма и Харибдой силовой политики группового интереса.
Библиография
• Берлин, Исайя (2014). «Два понимания свободы», Философия свободы. Европа, Москва: Новое литературное обозрение, с. 122–181.
• Кант, Иммануил (1997). «Основоположение к метафизике нравов», Соч. на рус. и нем. языках: В 4 тт., Москва: Канон-Плюс, т. 3.
• Ролз, Джон (2010). Теория справедливости, Москва: Издательство ЛКИ.
• Эльстер, Юн (2018). Кислый виноград. Исследование провалов рациональности, Москва: Издательство Института Гайдара.
• Alcoff, Linda Martin (2006). Visible Identities: Race, Gender and the Self, Oxford: Oxford University Press.
• Appiah, Kwame Anthony (2005). The Ethics of Identity, Princeton: Princeton University Press.
• ––– (2001). “(2010). Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, New York: Norton.
• Arneson, Richard (1991). “Autonomy and Preference Formation,” in Jules Coleman and Allen Buchanan, eds. In Harm's Way: Essays in Honor of Joel Feinberg, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 42–73.
• ––– (1999). “What, if Anything, Renders All Humans Morally Equal?,” in D. Jamieson (ed.), Singer and his Critics, Oxford: Blackwell, pp. 103–28.
• Arpaly, Nomy (2004). Unprincipled Virtue, New York: Oxford University Press.
• Atkins, Kim (2008). Narrative Identity and Moral Identity: A Practical Perspective, New York: Routledge.
• Baumann, Holgar (2008). “Reconsidering Relational Autonomy. Personal Autonomy for Socially Embedded and Temporally Extended Selves,” Analyse and Kritik, 30: 445–468.
• Bell, Daniel (1993). Communitarianism and its Critics, Oxford: Clarendon.
• Benhabib, Seyla (1992). Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, New York: Routledge.
• Benn, Stanley (1988). A Theory of Freedom, Cambridge: Cambridge University Press.
• Benson, Paul (2005). “Feminist Intuitions and the Normative Substance of Autonomy,” in J.S. Taylor (ed.) (2005), pp. 124–42.
• ––– (1994) “Autonomy and Self-Worth,” Journal of Philosophy, 91 (12): 650–668.
• ––– (1990). “Feminist Second Thoughts About Free Agency,” Hypatia, 5 (3): 47–64.
• ––– (1987). “Freedom and Value,” Journal of Philosophy, 84: 465–86.
• Berlin, Isaiah (1969). “Two Concepts of Liberty,” in Four Essays on Liberty, London: Oxford University Press, pp. 118–72.
• Berofsky, Bernard (1995). Liberation from Self, New York: Cambridge University Press.
• Brighouse, Harry (2000). School Choice and Social Justice, Oxford: Oxford University Press.
• Brown, Wendy (1995). States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Bushnell, Dana, ed. (1995). Nagging Questions, Savage, Md: Rowman & Littlefield.
• Butler, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge.
• Christiano, Thomas (1996). The Rule of the Many: Fundamental Issues in Democratic Theory, Boulder, CO: Westview Press.
• Christiano, Thomas and John Christman, eds. (2009). Contemporary Debates in Political Philosophhy Oxford: Wiley-Blackwell.
• Christman, John (1991). “Autonomy and Personal History,” Canadian Journal of Philosophy, 21 (1): 1–24.
• ––– (1995). “Feminism and Autonomy,” in Bushnell (1995), pp. 17–39.
• ––– (2001). “Liberalism, Autonomy, and Self-Transformation,” in Social Theory and Practice, 27 (2): 185–206.
• ––– (2004). Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction, London: Routledge.
• ––– (2001). “(2005). “Autonomy, Self-knowledge and Liberal Legitimacy,” in Christman and Anderson (eds.) (2005), 330–57.
• ––– (2009). The Politics of Persons: Individual Autonomy and Socio-historical Selves, Cambridge: Cambridge University Press.
• ––– ed. (1989)The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy, New York: Oxford University Press.
• Christman, John and Joel Anderson, eds. (2005). Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays, New York: Cambridge University Press.
• Cochran, David (1999). The Color of Freedom, Albany, NY: SUNY Press.
• Coburn, Ben (2010). Autonomy and Liberalism, New York: Routledge.
• Code, Lorraine (1991). “Second Persons,” in What Can She Know? Feminist Theory and the Construction of Knowledge, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
• Cohen, Joshua (1996). “Procedure and Substance in Deliberative Democracy,” in Benhabib (ed.) (1996a), pp. 95–119.
• ––– (2002). “Deliberation and Democratic Legitimacy,” in James Bohman and William Rehg, eds., Deliberative Democracy, Cambridge, MA: MIT Press, 67–92.
• Conly, Sarah (2013). Against Autonomy: Justifying Coercive Paternalism, Cambridge: Cambridge University Press.
• Cornell, Drucilla (1998). At the Heart of Freedom, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Crittenden, Jack (1992). Beyond Individualism: Reconstituting the Liberal Self, New York: Oxford University Press.
• Crocker, Lawrence (1980). Positive Liberty, The Hague: Martinus Nijhoff.
• Cuypers, Stefaan (2001). Self-Identity and Personal Autonomy, Hampshire, UK: Ashgate.
• Cuypers, Stefaan E. and Haji, Ishtiyaque (2008). “Educating for Well-Being and Autonomy,” in Theory and Research in Education, 6 (1): 71–93.
• Double, Richard (1992). “Two Types of Autonomy Accounts,” Canadian Journal of Philosophy, 22 (1): 65–80.
• Dworkin, Gerald (1988). The Theory and Practice of Autonomy, New York: Cambridge University Press.
• Dworkin, Ronald (2000). Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Feinberg, Joel (1986). Harm to Self. The Moral Limits of the Criminal Law (Volume 3), Oxford: Oxford University Press.
• ––– (1989). “Autonomy,” in Christman, ed. (1989), pp. 27–53.
• Fischer, John Martin, ed. (1986). Moral Responsibility, Ithaca, NY: Cornell University Press.
• Fischer, John Martin and Mark Ravizza (1998). Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility, New York: Cambridge University Press.
• Flathman, Richard (1989). Toward A Liberalism, Ithaca: Cornell University Press.
• Frankfurt, Harry (1987). “Freedom of the Will and the Concept of a Person,” in The Importance of What We Care About, Cambridge: Cambridge University Press.
• ––– (1992). “The Faintest Passion,” Proceedings and Addresses of the Aristotelian Society, 49: 113–45.
• Friedman, Marilyn (1986). “Autonomy and the Split-Level Self,” Southern Journal of Philosophy, 24 (1): 19–35.
• ––– (1997). “Autonomy and Social Relationships: Rethinking the Feminist Critique,” in Meyers, ed. (1997), pp. 40–61.
• ––– (1998). “Feminism, Autonomy, and Emotion,” in Norms and Values: Essays on the Work of Virginia Held, Joram Graf Haber, ed., Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
• ––– (2000). “Autonomy, Social Disruption, and Women,” in MacKenzie and Stoljar, eds. (2000), pp. 35–51.
• Gaus, Gerald F. (1996). Justificatory Liberalism, New York: Oxford University Press
• ––– (2001). “(2011). The Order of Public Reason: A Theory of Freedom and Morality in a Diverse and Bounded World, Cambridge: Cambridge University Press.
• Geuss, Raymond (2001). “Liberalism and Its Discontents,” Political Theory, 30(3): 320–39.
• Gilligan, Carol (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Gould, Carol (1988). Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society, Cambridge: Cambridge University Press.
• Gray, John (1993). Post-Liberalism: Studies in Political Thought, New York: Routledge.
• Griffin, James (1988). Well-Being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance, Oxford: Oxford University Press.
• Grovier, Trudy (1993). “Self-Trust, Autonomy and Self-Esteem,” Hypatia, 8 (1): 99-119.
• Gutman, Amy (1985). “Communitarian Critics of Liberalism,” Philosophy and Public Affairs, 14 (3): 308–22.
• ––– (1987). Democratic Education, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• ––– (1993). “Democracy,” in Robert Goodin and Philip Pettit, eds. A Companion to Contemporary Political Philosophy, Oxford: Blackwell Publishers, 411–21.
• Habermas, Jürgen (1994). Between Facts and Norms, William Rehg, trans., Cambridge, MA: MIT Press.
• Haworth, Lawrence (1986). Autonomy: An Essay in Philosophical Psychology and Ethics, New Haven: Yale University Press.
• Herman, Barbara (1993). The Practice of Moral Judgement, Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Hill, Thomas (1987). “The Importance of Autonomy,” in Kittay and Meyers, ed. (1987), pp. 129–38.
• ––– (1989). “The Kantian Conception of Autonomy,” in Christman, ed. (1989), pp. 91–105.
• ––– (1991). Autonomy and Self Respect, New York: Cambridge University Press.
• Hirschmann, Nancy (2002). The Subject of Freedom: Toward A Feminist Theory of Freedom, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Hurka, Thomas (1993). Perfectionism, New York: Oxford University Press.
• Jaggar, Alison (1983). Feminist Politics and Human Nature, Totowa, NJ: Rowman and Allanheld.
• Kant, Immanuel (1797/1999). Metaphysical Elements of Justice, John Ladd, ed. Indianapolis, IN: Hackett.
• Kernohan, Andrew (1999). Liberalism, Equality, and Cultural Oppression, New York: Cambridge University Press.
• Kittay, Eva Feder and Diana T. Meyers (1987). Women and Moral Theory, Savage, MD: Rowman and Littlefield.
• Korsgaard, Christine M. (2014). “The Normative Constitution of Agency,” in Manuel Vargas and Gideon Yaffe, eds. Rational and Social Agency: The Philosophy of Michael Bratman, New York: Oxford University Press, 190–214.
• ––– (2001). “(1996). The Sources of Normativity, New York: Cambridge University Press.
• Kymlicka, Will (1989). Liberalism, Community and Culture, Oxford: Clarendon.
• Lakoff, Sanford (1996) Democracy: History, Theory, Practice, Boulder, CO: Westview Press.
• Larmore, Charles (2008). The Autonomy of Morality, Cambridge: Cambridge University Press.
• Lehrer, Keith (1997). Self-Trust: A Study in Reason, Knowledge, and Autonomy, Oxford: Oxford University Press.
• Lindley, Richard (1986). Autonomy, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International.
• MacIntyre, Alasdair (1984). After Virtue, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
• Mackenzie, Catriona (2008). “Relational Autonomy, Normative Authority and Perfectionism,” Journal of Social Philosophy, 39 (4): 512–33.
• ––– (2014). “Three Dimensions of Autonomy: A Relational Analysis,” in Veltman and Piper, eds. (2014), 15–41.
• Mackenzie, Catriona, and Natalie Stoljar, eds. (2000a). Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self, New York: Oxford University Press.
• ––– (2000b). “Introduction: Autonomy Refigured,” in Mackenzie and Stoljar, eds. (2000a): 3–31.
• MacKinnon, Catherine (1989). Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Mahmoud, S. (2003). “Ethical Formation and Politics of Individual Autonomy in Contemporary Egypt,” Social Research, 70 (3): 837–866.
• Margalit, Avashai and Joseph Raz (1990). “National Self-Determination,” Journal of Philosophy, 87(9): 439–61.
• May, Thomas (1994). “The Concept of Autonomy,” American Philosophical Quarterly, 31 (2): 133–44.
• McCallum, Gerald (1967). “Negative and Positive Freedom,” Philosophical Review, 76: 312–34.
• McLeod, Carolyn and Susan Sherwin, “Relational Autonomy, Self-Trust, and Health Care for Patients Who Are Oppressed,” in MacKenzie and Stoljar, eds., 2000a, pp. 259–79.
• Mele, Alfred R. (1991). “History and Personal Autonomy,” Canadian Journal of Philosophy, 23: 271–80.
• ––– (1995). Autonomous Agents: From Self-Control to Autonomy, New York: Oxford University Press.
• Meyers, Diana T. (1987). “Personal Autonomy and the Paradox of Feminine Socialization,” Journal of Philosophy, 84: 619–28.
• ––– (1989). Self, Society, and Personal Choice, New York: Columbia University Press.
• ––– (1994). Subjection and Subjectivity: Psychoanalytic Feminism and Moral Philosophy, New York: Routledge.
• ––– ed. (1997). Feminist Rethink the Self, Boulder, CO: Westview Press.
• ––– (2004). Being Yourself: Essays on Identity, Action, and Social Life, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
• Mill, John Stuart (1859/1975). On Liberty, David Spitz, ed. New York: Norton.
• Mills, Charles (1997). The Racial Contract, Ithaca, NY: Cornell University Press.
• Moon, J. Donald (1993). Constructing Community: Moral Pluralism and Tragic Conflicts, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Nedelsky, Jennifer (1989). “Reconcieving Autonomy: Sources, Thoughts, and Possibilities,” Yale Journal of Law and Feminism, 1 (1): 7–36.
• Nicholson, Linda, ed. (1990). Feminism/Postmodernism, New York: Routledge.
• Noggle, R. (2005). “Autonomy and the Paradox of Self-Creation: Infinite Regresses, Finite Selves, and the Limits of Authenticity,” in J.S. Taylor, ed. (2005), pp. 87–108.
• O'Neill, Onora (1989). Constructions of Reason: Explorations in Kant's Practical Philosophy, New York: Cambridge University Press.
• Oshana, Marina (1998). “Personal Autonomy and Society,” Journal of Social Philosophy, 29 (1): 81–102.
• ––– (2006). Personal Autonomy in Society, Hampshire, UK: Ashgate.
• ––– (2005). “Autonomy and Self Identity,” in Christman and Anderson, eds. (2005), pp. 77–100.
• Pearsall, Marilyn, ed. (1986). Women and Values: Readings in Recent Feminist Philosophy, Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
• Rawls, John (1993). Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
• Raz, Joseph (1986). The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon.
• Richardson, Henry (2003). Democratic Autonomy: Public Reasoning about the Ends of Policy, Oxford: Oxford University Press.
• Ripstein, Arthur (1999). Equality, Responsibility, and the Law, Cambridge University Press.
• Sandel, Michael J. (1982). Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition 1999.
• Schneewind, J. B. (1998). The Invention of Autonomy, Cambridge: Cambridge University Press.
• Sher, George (1997). Beyond Neutrality: Perfectionism and Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
• Stoljar, Natalie (2000). “Autonomy and the Feminist Intuition,” in Mackenzie and Stoljar, eds. (2000a): 94–111.
• Sumner, L. W. (1996). Welfare, Happiness and Ethics, New York: Oxford University Press.
• Tamir, Yael (1993). Liberal Nationalism, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Taylor, Charles (1989). “Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate,” in Rosenblum (1989), pp. 159–82.
• ––– (1991). The Ethics of Authenticity, Cambridge, MA: Harvard University Press.
• ––– (1992). Multiculturalism and the “Politics of Recognition,”, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Taylor, James Stacey, ed. (2005). Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
• Taylor, Robert (2005). “Kantian Personal Autonomy,” Political Theory, 33 (5): 602–628.
• Thalberg, Irving (1989). “Hierarchical Analyses of Unfree Action,” reprinted in Christman (1989), pp. 123–136.
• Veltman, Andrea and Mark Piper, eds. (2014). Autonomy, Oppression, and Gender. Oxford: Oxford University Press.
• Waldron, Jeremy (1993). Liberal Rights: Collected Papers 1981–1991, New York: Cambridge University Press.
• Wall, Steven (1998). Liberalism, Perfectionism and Restraint, New York: Cambridge University Press.
• ––– (2009). “Perfectionism in Politics: A Defense,” in Christiano and Christman, eds. 2009, pp. 99–118.
• Westlund, Andrea (2014). “Autonomy and Self-Care,” in Veltman and Piper, eds. (2014), 181–98.
• White, Stephen (1991). Political Theory and Post Modernism Cambridge: Cambridge University Press.
• Williams, Bernard (1985). Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Wolf, Susan (1990). Freedom and Reason, New York: Oxford University Press.
• Wolff, Robert Paul (1970). In Defense of Anarchism, New York: Harper & Row.
• Young, Iris Marion (1990). Justice and the Politics of Difference, Princeton, NJ: Princeton University Press.
• ––– (2000). Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University Press.
• Young, Robert (1986). Autonomy: Beyond Negative and Positive Liberty, New York: St. Martin's Press.