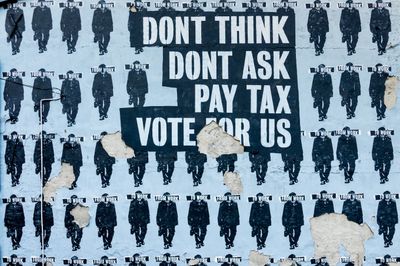Феминистский взгляд на проблему самости
Впервые опубликовано 28 июня 1999 года; содержательно переработано 19 февраля 2020 года.
Тема самости долгое время занимала видное место в феминистской философии, поскольку она тесно связана с вопросами тождества личности, тела, социального измерения и агентности — вопросами, которыми должен задаваться феминизм. Симона де Бовуар однажды сделала провокационное заявление:
«Он — Субъект, он — Абсолют, она — Другой», — которое свидетельствует о том, что вопрос самости играет первостепенную роль для феминизма. Быть Другим значит быть не-субъектом, не-агентом, иначе говоря, быть не более чем объектом. Женская самость систематическим образом подчинялась или вовсе отрицалась законом, традиционными практиками и культурными стереотипами. На протяжении истории женщин идентифицировали либо как второсортную версию мужчин, либо как их прямую противоположность, определяемую через качества, отличающие их от мужчин. В обоих случаях подобные идеи принижали женщин. Коль скоро женщин воспринимали как некую усеченную версию маскулинной индивидуальности, парадигма самости, которая стала господствующей в западной философии и в поп-культуре США, произрастает из маскулинного прототипа. Феминистки протестуют против того, что опыт преимущественно белых, гетеросексуальных, в основном экономически успешных мужчин, прибравших к рукам социальную, экономическую и политическую власть и доминирующих в области изобразительного искусства, литературы, а также в информационной и научной среде, приобрел статус универсального идеала. Как заявляют феминистки, при надлежащем рассмотрении проблема самости в итоге перестает быть лишь метафизическим вопросом философии, переходя в контекст этики, эпистемологии, а также политической и социальной сфер. В ответ на сложившееся положение дел исследование проблемы самости в феминистском дискурсе развивается в трех основных направлениях: (1) критика господствующих современных (modern) западных представлений о самости; (2) протест против традиционной фемининной идентичности; (3) переопределение самости в качестве (а) динамической, реляционной индивидуальности, определяемой бессознательными желаниями и социальными связями, б) интерсекциональной и даже гетерогенной. Переосмысление самости в феминизме подвергает критике стандартные философские модели, склоняясь к тому, чтобы определять самость в качестве реляционного и многослойного феномена. В настоящей статье мы будем изучать как критические, так и конструктивные подходы феминисток к проблеме самости.
Критика классических концепций самости
Западная философия начиная с Нового времени воспевает индивидуальность. Современная моральная и политическая мысль наследует идею, что Я — свободный, рациональный субъект действия, наделенный выбором, то есть автономный агент. В этом контексте господствуют две модели самости: кантианский этический субъект и т.н. «homo economicus» утилитаризма. Тем не менее эти две модели различны в плане расставленных в них акцентов. Кантианский субъект этики использует разум, чтобы выйти за пределы культурных норм и личных предпочтений, стремясь открыть абсолютную истину, в то время как homo economicus применяет разум, чтобы расположить свои потребности в верном порядке и определить, каким образом можно максимизировать удовлетворение своих желаний с помощью инструментальной рациональности рынка. Обе эти модели самости минимизируют личностную и этическую важность обстоятельств, выбирать которые нам не приходится, взаимоотношений между людьми и биосоциальных сил. Они отрывают индивидов от отношений и среды, в которых они пребывают, а также укрепляют при этом модерную дихотомию, которая разделяет социальную сферу на автономных агентов и зависимые лица. Для кантианского субъекта этики эмоциональные и социальные узы ставят под удар объективность и подрывают рациональную приверженность долгу. Для hono economicus совершенно неважно, какие силы формируют его желания, если только они не возникают в результате принуждения или обмана, а его взаимоотношения с другими должны учитываться при расчетах наряду с прочими нуждами. В контексте этих устоявшихся моделей самости предполагается, что структурное доминирование и подчинение не могут проникнуть во «внутреннюю цитадель» самости. Многочисленные аспекты социальной идентичности, связанные с полом, сексуальной ориентацией, расой, классовой и этнической принадлежностью, возрастом, дееспособностью и т.д. остаются без внимания. Точно так же эти модели пренебрегают сложностью индивидуального психического мира, населеяемого бессознательными фантазиями, страхами и желаниями, игнорируя то, как их динамика может влиять на сознательную жизнь. Рациональный субъект как модерный философский конструкт — проекция самости, не подверженной двусмысленности, тревогам и депрессии, навязчивости, предубеждениям, ненависти или насилию. В центре внимания — бестелесный ум, тело же второстепенно — это всего-навсего источник потребностей homo economicus и соблазн, отвлекающий кантианского субъекта этики. Возраст, внешность, сексуальность, биологическое строение и физические способности — все это считается внешним по отношению к самости.
Однако при всей несомненной значимости рационального анализа и свободного выбора некоторые феминистки утверждают, что эти способности не задействуются вне феномена, называемого самостью, а он устроен совсем иначе. Философки-феминистски критиковали рациональность и независимость, приписываемые самости в ее господствующих моделях, указывая на неадекватность этих характеристик. Хотя кантианский субъект и homo economicus представлены как не имеющие половой, классовой, расовой принадлежности, а также без возраста, как утверждают феминистки, за ними таится белый, здоровый, гетегосексуальный, цисгендерный мужчина в начале средних лет из средних или высших слоев общества. С кантианской точки зрения он является беспристрастным судьей, который свободно решает, как ему применять всеобщие принципы, а с утилитаристской точки зрения это участник рыночных переговоров и сделок, который преследует личную выгоду.
Обвиняя женщин в эмоциональности и беспринципности, эти мыслители ратовали за то, чтобы ограничить женщин ведением домашнего хозяйства, где их голос можно нейтрализовать или даже привить ему добродетель, научив исполнять роль сочувствующей, понимающей жены, ранимой сексуальной партнерки и заботливой матери. Ассоциируемые прежде всего с телом, а не умом, женщины должны были следить за своим телом и телами прочих индивидов в гендерном разделении труда (Rawlinson 2016). Разделение ценностей в соответствии с бинарной гендерной оппозицией исторически связано с валоризацией маскулинности и стигматизацией фемининности. Маскулинная рациональная самость — царство нравственной благопристойности, принципов и долга, житейской предусмотрительности и здравого смысла. Фемининность, напротив, ассоциировалась с сентиментальной привязанностью к любимым, порождающей фаворитизм и подрывающей принципы. Точно так же ее связывали с погружением во всякие темные перипетии домашних хлопот и дрязг, в то время как маскулинная самость воспринимается как нерушимая крепость прямоты и последовательности в публичной сфере ответственной гражданственности. Самость маскулинна в своей сущности, а маскулинная самость в своей сущности благая и мудрая.
Некоторые философки-феминистки пытаются видоизменять и отстаивать эти модели, проблематизируя лишь историческое исключение из них женщин и утверждая, что модели следует расширить с тем, чтобы они включили фигуру женщины. Тем не менее деконтекстуализированный индивидуализм и отделение разума от прочих способностей, составляющие неотъемлемую часть двух главенствующих концепций, доставляют немало хлопот философкам-феминисткам, заставляя искать альтернативный взгляд на проблему самости. Многие утверждают, что мизогинное наследие кантианского субъекта и homo economicus нельзя устранить, лишь отстаивая женские самости того же толка. Скорее, такие представления уже гендерно определены. В западной культуре сознание и разум связываются с маскулинностью, а тело и эмоции — с фемининностью (Irigaray 1985b; Lloyd 1984). Следовательно, отождествлять самость с рациональным сознанием значит маскулинизировать самость сообразно устоявшимся стереотипам. Не лишенная политического характера, эта концепция самости оставляет без внимания неолиберальные неравенства, призывая женщин ценить экономический успех и социальную независимость, которые при этом по необходимости подразумевают продолжение эксплуатации других, менее привилегированных женщин (Oksala 2016; Arruzza, Bhattacharya, and Fraser 2019).
Философское преимущество маскулинности над фемининностью зиждется на несостоятельных допущениях прозрачности самости, ее устойчивости перед социальным воздействием, надежности разума в качестве средства избавления моральных суждений от содержащихся изъянов. Люди вырастают в социальных средах, насыщенных культурно-нормативными предрассудками и неявными допущениями — даже в рамках сообществ, где строго запрещены очевидные проявления нетерпимости (Meyers 1994). Хотя официальные нормы поддерживают ценности равенства и толерантности, общество продолжает транслировать завуалированные посылы о неполноценности исторически субординированных социальных групп через стереотипы и прочие образы. Подобные глубоко укорененные схемы нередко структурируют установки, восприятие, привычки, суждения, сострадание или эмпатию вне зависимости от сознательно благой воли индивида (Fischer 2014; Sullivan 2001, 2015; Valian 1998; Collins 1990). Как считает Кейт Манн, мизогинные нормы заставляют больше сопереживать мужчинам, и называет это явление himpathy, или мужеориентированной эмпатией (Manne 2019). Из-за этих норм общество более склонно доверять свидетельствам представителей привилегированных социальных групп и минимизировать перспективы тех, кого не признают в качестве объективных, рациональных субъектов познания (Fricker 2007). В результате люди зачастую считают себя объективными и честными, несмотря на систематическую дискриминацию ими «отличающихся» от них людей (Piper 1990; Young 1990). Подобного рода предубеждения невозможно развеять посредством одной лишь рациональной рефлексии (Meyers 1994; Al-Saji 2014). Действительно, в таком случае концепция беспристрастной и рациональной самости одобряет «невинные» проступки и воспроизведение социальной стратификации, наделяющей привилегиями элиту, которую эта концепция принимает за свой образец.
Нивелирование женской самости открыто формулировалось в англо-европейском и английском праве. Согласно правовой доктрине о статусе замужней женщины, т.н. coverture, личностность женщины после оформления брака поглощается личностностью супруга (McDonagh 1996). Принятие фамилии мужа символизировало ее отречение от отдельной идентичности супруги. Кроме того, статус замужней женщины лишал ее права телесной неприкосновенности, то есть изнасилование и прочие разновидности нанесения телесных повреждений в браке не считались преступлением. Она лишалась права владеть собственностью, распоряжаться своими доходами и заключать договоры от своего имени. Лишенной права голосовать или участвовать в суде присяжных, женщине отводилась роль «гражданина второго сорта»; ее политическую позицию представлял наделенный правами супруг. Хотя coverture в роли статуса замужней был отменен, пережитки подобного отрицания женской самости можно усмотреть в менее старых законодательных актах и в контексте современной культуры. Например, беременная женщина, лишенная расовых и классовых привилегий, остается уязвимой в отношении легально санкционированных нарушений ее телесной неприкосновенности и правовой автономии (Bordo 1993; Brown 1998). Самоотверженность как отвержение самости по-прежнему играет роль правового статуса беременной женщины. Более того, стереотип о фемининной самоотверженности до сих пор процветает в образах популярной культуры. Любая женщина, уверенная в себе и отстаивающая свои права, идет вразрез с превалирующими гендерными нормами, и мать, не посвящающую себя целиком и полностью детям, скорее всего назовут эгоисткой или даже «нарушительницей» общественного благосостояния, подвергнут строгой общественной цензуре и лишат ее права на пользование социальными услугами (Sparks 2015).
Дополняя этот ход рассуждения, ряд феминисток утверждает, что как таковой идеал независимой и рациональной самости влечет за собой возмутительные социальные последствия. Для претворения этого идеала необходимо подавлять в себе напряжение и охранять жесткие границы рафинированной самости. Чуждые потребности и побуждения списываются на бессознательное, однако этот бессознательный материал неизбежно вторгается в жизнь сознания, воздействуя на взгляды и потребности людей. В частности, презираемый и внушающий страх Другой внутри себя проецируется на «другие» социальные группы, а ненависть и презрение перенаправляются на этих мнимых врагов (Kristeva 1988 [1991]; McAfee 2019; Scheman 1993). Мизогиния и прочие проявления нетерпимости, таким образом, проистекают из представления о том, что Я должно быть решительным, неуязвимым и унитарным, а требования эти невыполнимы. Дальше хуже: иррациональную ненависть можно исцелить, только если мы откажемся от требования самообладания, но отказаться от него значит низвергнуть себя до уровня опустившейся, феминизированной самости, чьи заботы не следует принимать всерьез. В самом деле, если женщина часто высказывает возражения, ее назовут истеричкой и кайфоломщицей (Ahmed 2017). Фиктивная кантианская самость, весьма далекая от идеала, гарантирующего моральную добросовестность, выступает условием возможности непреодолимой вражды и несправедливости.
Для женщин нормально вести себя в соответствии с фемининными стандартами, подавлять свои стремления и принимать гендерно-конформные цели (Irigaray 1985a; Bartky 1990; Babbitt 1993; Cudd 2006; Бовуар 1997). Феминистки описывают этот феномен, говоря, что женщины интериоризируют патриархальные нормы: нормы включаются в когнитивную, эмоциональную и конативную структуры самости. Женщины могут, сами того не сознавая, способствовать своему притеснению. Порой искаженные нормы могут даже привести к тому, что женщина станет сомневаться в собственном психическом здоровье. Этот процесс Кейт Абрамсон называет «газлайтингом». Женщина, подвергшаяся газлайтингу, может потерять чувство собственного Я, доведя себя до совершенно плачевного состояния (Abramson 2014). Однажды укоренившись в психической экономии женщины, интериоризированное притеснение будет определять ее основные потребности. Таким образом, стремясь максимально удовлетворить свои желания, она будет действовать заодно с притесняющими ее факторами. Баланс самодостаточности homo economicus, достигаемый через удовлетворение потребностей, оказывается неспособен выйти из этой передряги.
Наконец, доминирующие концепции самости выглядят так, словно субъект не рождался и не воспитывался: попечители и роженицы исключены из поля зрения (Irigaray 1985b; Baier 1987; Code 1987; Held 1987; Willett 1995 and 2001; Kittay 1999; LaChance Adams и Lundquist 2012). Самость, по-видимому, материализуется сама по себе вместе со стартовым комплектом базовых физических нужд и рациональных навыков. Способности и умения субъекта, казалось бы, не ухудшаются и не изменяются при переходе из одного контекста в другой. В условиях отрицания зависимости и уязвимости предполагается, что выбор всех связей осуществлялся свободным образом и все сделки обсуждались добровольно. Устранение фигуры попечителей поддерживает волюнтаристскую иллюзию независимости, характеризующую кантианского этического субъекта и homo economicus, и отнюдь не случайно то, что роль попечителя традиционно закреплялась за женщиной. Альтернативные добродетели — такие как забота, любовь, нежность, спонтанность и взаимозависимость оцениваются, скорее, как проигрышные для «мужика», который «сказал — сделал», а не как характеристики жизнеспособной самости и динамичного ощущения агентности (Baier 1987; Koziej 2019). Мать, культивирующая «социальный эротизм» между ней и ее ребенком через танец гармонизации аффектов (Willett 1995, 2001), подобно любовнице, обнимающей нежданного гостя, выходит за границы модерных норм самости.
Феминистская критика обнаруживает предвзятость якобы всеобщего кантианского этического субъекта и homo economicus. Эти концепции самости (1) андроцентричны, так как воспроизводят маскулинные стереотипы и идеалы; (2) сексистские, так как унижают все, что отдает фемининными нотками; (3) маскулинистские, так как ратуют за сохранение и увековечивание мужского господства, (4) элитарны, так как утверждают прочие смежные установки, в том числе гетеросексисткие, трансфобные, расистские, этноцентричные, эйблистские, классистские и, пожалуй, поддерживающие видовую дискриминацию, или т.н. спесишизм (Haraway 2008). Хотя вышеприведенные аспекты понятия самости не входят в число пунктов, рассматриваемых в настоящей статье, эти проблемы нельзя вырывать из контекста более широкой критики и попыток переопределить самость, не воспроизводя при этом англо-европейские модерные структуры доминирования.
Реклейминг женской идентичности и статуса женщины
Все эти недочеты вызывают необходимость переопределения самости по крайней мере в двух отношениях: необходимо учесть черты самости, которые традиционно оставались без внимания (например, взаимозависимость и уязвимость); необходимо также рассматривать самость как социально расположенную (situated) и реляционную. Чтобы отразить способность самости вычленять укоренившиеся в культуре нормы и давать им отпор, моральный субъект не должен сводиться к способности рассуждать. По мнению многих феминисток, признание зависимого характера самости не равняется ее обесцениванию, скорее наоборот, это положительная оценка уязвимости (Code 2011), ставящая под вопрос свободную агентность самости, которая имплицитно соответствует маскулинному идеалу.
Тем не менее есть опасность, что переоценка зависимости может упрочить унижающий достоинство женщин взгляд, представляющий их жертвами, а мужчин — агентами и/или закрепляющий гендерную дихотомию маскулинных и фемининных ценностей. Акцент на зависимости и заботе может также грозить смешением категории женщин с матерями и кормилицами в т.н. «эссенциализме материнства», говоря словами Патрис ДиКвинцио (DiQuinzio 1999). Утверждая, что на деле моральные добродетели лишены гендерности, Мэри Уолстонкрафт рассматривает «фемининные» добродетели как извращения этих истинных добродетелей, сожалея о том, что женщины расписались под этим фальшивым идеалом (Wollstonecraft 1792). Аналогичным образом, Симона де Бовуар называет подчиненных патриархату женщин «искалеченными» и «имманентными» (Бовуар 1997). Приучив женщин объективировать самих самих себя, их стали обвинять в нарциссизме, недалекости и зависящими от одобрения других. Их лишили возможности строить карьеру, заставили сидеть в ожидании, пока их выберет будущий супруг; подчиненные естественным силам в ходе беременности, женщины не могут стать трансцендентными агентами. По мнению Бовуар, они зачастую не хотят брать на себя бремя ответственности за собственную свободу.
Такое изображение женщины в качестве жалкой жертвы патриархальной семьи было подвержено критике и корректировке в современной феминистской философии. Мы рассмотрим три главных стратегии реклейминга:
- (1) переоценка традиционных «женских» занятий — материнства и прочих модусов образования социальных связей посредством развития этики заботы и этики эроса;
- (2) переосмысление автономии через выход за пределы двух вышеописанных традиционных моделей;
- (3) реклейминг полового различия через символический анализ женской идентичности.
Феминистки утверждают, что беременность, рождение и материнство раскрывают важные черты самости даже для тех людей, которые сами не переживают подобный опыт. Два смежных философских подхода — этика заботы и этика эроса — подвергли переоценке значение фигуры матери, вынося на передний план проблемы самости. Обе традиции подчеркивают, что беременность и/или материнство раскрывают, что агентность зачастую конституируется совместно и динамично. Традиция заботы несколько отличается для тех, кто стремится валидировать труд опеки над лицами в зависимом положении, и/или для тех, кто желает переопределить автономию таким образом, чтобы уравнять автономию и зависимость (Gilligan 1982, 1987; Ruddick 1989; Kittay 1999; Held 2006; Lindemann 2014). Этика заботы подчеркивает ценность заботы как деятельности и достоинств, в которых отражается уязвимость субъекта. Этика эроса произрастает из традиции т.н. материнской заботы со стороны другой женщины (othermothering) и освободительных дискурсов о генеративных либидинальных влечениях и/или культивирования социального эроса соединения (Collins 1990; Irigaray 1993; Willett 1995, 2001, 2008, 2014, 2019; Lorde 2007). Социальные связи могут отражать динамику отношений родства, политической солидарности и общественной вовлеченности вне парадигмы нуклеарной семьи (Collins 1990; Nzegwu 2006). Данная традиция эроса выдвигает на передний план сложные модусы взаимозависимости, вытекающие из бинарной оппозиции автономия–зависимость и акцентирует плотность сетей социальных принадлежностей. Этика эроса делает упор на оживляющих аффектах предсознательной энергии и подключенности и их творческом потенциале в плане политической субверсии и общинных практик. Самость оказывается многослойным феноменом с динамическим набором ролей и взаимосвязанных желаний.
Исторически сложилось, что отношение между матерью и ребенком либо целиком исключалось из философского дискурса, либо воспринималось лишь как подготовка к полному выражению этической самости. Преобладающие на Западе взгляды зачастую воспроизводят набившую оскомину басню о начальной зависимости от семьи, после за которой в итоге достигается автономия, через нарративы о сепарации и об обретении добродетелей самоопределения. Напротив, феминистская трактовка этики заботы и этики эроса подвергает отношения матери и ребенка ревизии, обнаруживая в них способ очерчивания интерконнективно зависимой самости. Развитие творческих коммуникативных навыков ребенка посредством настройки аффектов и игры тет-а-тет объясняет, почему социальные связи прочно закрепляются на всю жизнь (Willett 1995, 2001, 2014; Welsh 2013). Альтернативные способы взросления можно охарактеризовать через множественность социальных ролей, практик и связей. По словам Хильде Линдеманн, в активности заботы проявляются главные черты того, что она называет практикой личностного знания о том, когда и как следует цепляться за части других идентичностей, а также когда и как их отпускать (Lindemann 2014). Патриция Хилл Коллинз вводит элементы эротической этики интерконнективности в ее определении текучести феномена «материнской заботы со стороны другой женщины» для афроамериканских сообществ (Collins 1990). Коллинз цитирует трактовку термина «эрос», предложенную Одри Лорд: изначально эрос не сексуален и не относится сугубо к матери, а исполняет роль энергетического влечения, которое стремятся апроприировать системы угнетения и которую можно воспроизводить с помощью творческих социальных практик. Синтия Уиллетт в подробном разборе критических традиций эроса утверждает, что смеющаяся мать предоставляет субверсивное дополнение к идеалу материнства как долготерпения и самопожертвования (Willett & Willett 2019), а Мэри Роулинсон выступает за генеративность матерей в качестве альтернативы собственническому понятию модерной самости (Rawlinson 2016). Так как обо всех людях заботятся один или несколько взрослых и каждый индивид сформирован в подобном эмоционально заряженном взаимодействии, самость сущностно сформирована в рамках и с помощью ее отношений с ее попечителями или опекунами (Chodorow 1981). По мнению Нэнси Чодороу, строго дифференцированная, навязчиво рациональная и упрямо независимая самость — это маскулинное защитное образование, которое развивается у человека в результате пренебрежительного поведения отца, не заботившегося о нем в детстве.
Забота о ребенке включает в себя ряд деятельных процессов, управляемых определенным набором ценностей: защита и уход за хрупким существом и расширение чувства самости, но вместе с тем осознание границ своего влияния и непредсказуемости событий; чувствительность и внимание к резко отличающимся перспективе и позиции других; научение и познание любви в борьбе против травматичных социальных условий, неадекватных социальных услуг, инвазивных вмешательств госучреждений и медицинских институций (Collins 1990; Brown 1998). Практика материнства взывает к широкому диапазону межличностных, политических и рефлексивных навыков, которые далеко не ограничиваются делиберативной формой рассуждений, доминирующей в рамках традиционных концептуализаций самости. В частности, способность к эмпатии и умение мысленно реконструировать уникальные точки зрения других — всё это чрезвычайно важные характеристики моральной зрелости, однако для этики, основывающей моральное суждение на абстрактном понятии личности, эмпатия оказывается на периферии (Meyers 1994). Этика заботы и эроса подвергает переоценке феномены, которые традиционно называли фемининными, — чувства, опеку и близость — для того, чтобы осуществить реклейминг или реапроприацию областей, традиционно ассоциируемых с женщинами, и вместе с тем раскрыть более просторный или широкий способ выстраивания моральной самости.
Некоторые феминистки стремятся к новому равновесию между заботой и автономией, в то время как другие пытаются покончить с автономией раз и навсегда. Для некоторых она является андроцентричным пережитком модернизма (Jaggar 1983; Addelson 1994; Hekman 1995; Card 1996); другие настаивают на существовании у женщин потребности в автономном самоопределении (Lugones and Spelman 1983; de Lauretis 1986; King 1988; Govier 1993). Материнская забота зачастую влечет желание выкроить некое пространство и время для себя, а не ребенка (LaChance Adams and Lundquist 2012). Она также может вести к реклеймингу пылкой независимости в роли «бесстрашной воительницы», которую женщина принимает в составе материнского этоса в некоторых культурах и/или в жестких условиях притеснения (Nzegwu 2006; Lorde 2007). Ряд феминисток выдвигает в данном направлении концепцию автономии, которая не обесценивает межличностные навыки и способности, конвенционально описываемые в качестве фемининных (Mackenzie 2014, 2017; Nedelsky 1989; Meyers 1989, 2000; Benhabib 1999; Benjamin 1988; Weir 1995). В феминистских теориях автономию не путают с самодостаточностью и свободой воли, там скорее предполагается, что ей способствует поддержка во взаимоотношениях, к тому же автономия имеет разные степени (Friedman 1993). Вдобавок феминистские концепции подчеркивают, что автономный индивид нуждается в конструктивной обратной связи, а самости конституируются в совместности (Brison 2002, 2017; Cavarero 1997; Alcoff 2017; Ahmed 2017). Феминистская концепция предоставляет простор для рассмотрения автономии как непрерывного импровизационного процесса самораскрытия, самоопределения, самоориентации, а не однократной статичной приверженности некоторому набору желаний и целей, выбранных исключительно самим индивидом (Meyers 1989, 2000).
Айрис Мэрион Янг заявляет, что беременность свидетельствует в пользу того, что субъект или самость подвергаются расщеплению. С точки зрения Янг, беременность нарушает целостность тела. Во время беременности границы между Я и Другим размываются, будущая мать ощущает собственное «нутро как пространство Другого» (Young 1990). В отличие от Янг, для Гейл Вайс беременность позволяет переосмыслить целостность тела: вместо того, чтобы позиционировать тело беременной женщины как образец подрыва традиционной единой самости, беременность демонстрирует, что целостность тела всегда уже расплывчата и экспансивна (Weiss 1999). Как отмечает Талия Уэлш, опыт беременной женщины показывает, что самость вовсе не единая и не бесполая сущность (Welsh 2013). Может даже статься, что беременность есть не что иное, как ситуация, «метафизически и феноменологически привилегированная» для исследования взаимосвязи Я и Другого (Rodemeyer 1998).
Хотя беременность дает возможности для позитивной демонстрации множественности самости, она также может пролить свет на нарушения и невзгоды, с которыми женщины сталкиваются в патриархальных обществах. Как отмечает Янг, вмешательства врачей-акушеров в женские тела отчуждают женщин от самих себя посредством патологизации их состояния, подчиняя женщин инвазивному медицинскому контролю, тем самым ставя их в пассивное положение при деторождении (Young 1990). Обесценивание и контроль над телами цветных беременных женщин, как в случае легитимированных абортов, скорее, актуализируют вопрос о дальнейшем расширении прав женщин, нежели вызывают моментальную ассоциацию с хвалой уязвимости (Brown 1998). За последние несколько десятилетий медицинские технологии, такие как сонография, а также фетальная и неонатальная хирургия, иногда сталкивают беременных женщин с ужасающим выбором, испытывающим их агентную устойчивость и навыки проявления заботы (Feder 2014; LaChance Adams and Lundquist 2012). Дженнифер Скуро считает, что всякая беременность предполагает смерть внутри самости, поскольку всё прекращается с выдворением тела дугого из себя (Scuro 2017). Всякая беременность, таким образом, устраняет допущения о том, что субъект принадлежит сам себе. В то же время, это выдворение другого не всегда происходит при рождении: иногда беременность завершается выкидышем, если не абортом — так что беременность следует мыслить отдельно от деторождения.
Как видно по этому анализу беременности, феминистские теории самости зачастую сочетают в себе философский анализ и социальную критику, а также свидетельство о переживании (нем. Erlebnis, англ. lived experience). Последнее отличается особенно длинной историей в рамках феноменологии, где феминистически настроенные философки последние полвека описывали женский опыт. Поскольку в феноменологии в целом тело и опыт от первого лица занимают особенное место, с точки зрения методологии это направление разделяет многие цели феминизма. В частности, феноменологические теории телесности подчеркивают агентную природу живых тел, противостоя традиционным философским концепциям, которые описывают тело лишь как инструмент для сознания. В то же время феноменологини-феминистки отказываются от абстрактной природы традиционных феноменологических методов. С точки зрения феноменологинь-феминисток, различные самости занимают различные положения — и это немаловажно, так что нам не следует абстрагироваться от их социальных ролей, обращаясь исключительно к трансцендентальной области исследования. Это входит в противоречие с классической феноменологией, стремившейся распространять универсализированное понятие эго, замалчивающее различия между телами. Ранние феноменологини, например, Эдит Штайн или Герда Вальтер, зачастую анализировали то, каким образом ценности, традиционно связываемые с фемининностью, такие как эмпатия и общинность, участвуют в повседневной жизни женщины и ее моральном развитии (Stein 1996; Walther 1923). Наиболее широкое влияние получило утверждение Симоны де Бовуар о двойственности человеческих состояний: переживание предполагает в первую очередь «имманентность» — встроенность человека в культурно-историческую и межличностную ситуацию; но в переживании также имеется «трансцендентность», радикальная свобода в отношении личностного выбора и будущего человека. Хотя все люди разделяют это свойство, как полагает Бовуар, женщин преимущественно сливают с имманенцией, тем самым не поощряя их к утверждению собственной свободы (Бовуар 1997). Это значит, что их самость, как правило, сверхопределена их положением и контекстом, в котором они находятся — теми биологическими и прочими требованиями, которые принуждают их быть такими-то и такими-то. По мнению Бовуар, женщины должны переутвердить свою трансцендентность посредством продуктивных проектов. Таким образом, Бовуар прибавляет экзистенциалистского лоска и феноменологической идее ситуации, и идее автономии, продвигаемой некоторыми феминистками. По Бовуар, «женщина» — это категория, внедренная обществом; женская самость в таком случае также по большей части навязана ей обществом, и женщине следовало бы выстраивать собственную самость через взыскание своей свободы. И все же эта свобода всегда со-определяется в ситуации с Другими.
За последние десятилетия феноменологини-феминистки продвинулись в исследовании живого тела в качестве платформы самости, которая отражает культурные нормы и в то же время может дать место сопротивлению этим нормам. Почерпнув вдохновение в идее двойственности, сформулированной Бовуар, феноменологини-феминистки производят широкий спектр исследований измерений телесного существования женщины. В частности, Айрис Мэрион Янг обратила внимание на то, как культурные нормы имманенции и объективирования отражены в моделях телесного самовыражения женщины (Young 1990). Сандра Бартки показывает, что женщин поощряют воспринимать самих себя в качестве сексуального объекта, утверждая тем самым пассивность собственного тела и своей самости и отчуждаясь от них (Bartky 1990). Феноменология телесности, таким образом, ничуть не отгораживается от систем социальных властных отношений (Oksala 2016). Вместе с тем внимание феноменологов к таким обстоятельствам, как беременность (см. выше), может пролить свет на более позитивные стороны фрагментарной природы женской самости: самость в данном случае является множественной. Конфликт между ролями является существенной составляющей самости, и он особенно важен для женщин в патриархальных обществах (Weiss 2008). Последние десятилетия латино-американские феноменологини-феминистски особенно активно работали над новой концептуализацией множественной самости, как мы увидим в следующем разделе, где подробнейшим образом рассмотрим этот вопрос.
Феноменологини-феминистки подчеркивали также и то, как именно сексуальное насилие наживается на взаимозависимом, уязвимом и гендерно-окрашенном характере самости. Многие феминистки определяют сексуальное насилие не просто как одну разновидность физического насилия со стороны Другого, а, скорее, как отрицание самости (Cahill 2001; Brison 2002). Тело для феноменологии — динамическая платформа самости, оно может быть сведено к объекту лишь в условиях социального притеснения (Бовуар 1997; Cahill 2001). Как таковое сексуальное насилие проникает в сердцевину самости. В частности, изнасилование резко изменяет человека (Cahill 2001; Brison 2002; Alcoff 2017).
Феноменология — это не только платформа феминистской философии, которая особенно подчеркивает важность тела, противостоя дуализму сознание–тело, типичному для модерной концепции автономной самости.
Сара Ахмед и Тереза Бреннан полагают, что аффекты и эмоции ни исходят «изнутри», ни приходят «извне вовнутрь» — скорее, эмоции могут находиться в самой социальной атмосфере (Ahmed 2004; Brennan 2004). Ранджана Кханна определяет аффекты как проемы или раскрытия в Другого; как «изнутри наружу», так и «снаружи внутрь» самости (Khanna 2012). С точки зрения феминистских новых материализмов, тело не представляет собой индивидуальное выразительное целое (каким оно до сих пор остается в феноменологии); скорее, тело выступает «динамическим пучком отношений, предконституированным сексуально» (Braidotti 2006), находящимся во взаимосвязи со средой через интенсивности и потоки (Grosz 1994). Феминистский материализм зачастую противопоставляет себя постструктурализму, поскольку первый особо выделяет значимость материального тела, однако оба этих подхода подчеркивают радикальную гетерогенность или даже несуществование самости. Новый материализм сосредотачивается на теле, следуя теории «киборгов» Донны Харауэй и полагая, что биологические тела вовсе не противопоставляются технике — напротив, они тесно переплетаются друг с другом. Феминистский материализм стремится сместить тождества и сосредоточиться на становлении (Braidotti 2016).
На новый материализм особое влияние оказали работы постструктуралистки Люс Иригарей, которая, основываясь на наборе образов вокруг женского тела, предлагает альтернативу маскулинным моделям автономии. Иригарей обыгрывает символ вагинальных губ, дабы сформировать модель самости, в которой тело всегда уже двоица: трогающий сам себя организм, являющийся множественным (Irigaray 1985b, 1993). Этим жестом реклейминга Иригарей утверждает связь фемининности с телом заново, теперь наперекор маскулинным грезам о сепаратистской автономии. В рамках своей стратегии «мимесиса» Иригарей прибегает к самим стереотипам, которые задействовались против женщин в попытке дискредитировать их: она играет на традиционном понимании женщины как «другого», представляющего собой всего лишь тело, пассивное «зеркало» мужского субъекта. Она очерчивает в своих трудах эротическую любовь самости, которая утверждает различие внутри себя и позволяет самоопределимому субъекту контактировать с другими. Она также отказывается от самой идеи идентичности из-за предполагаемой ею единообразной и фаллоцентричной модели самости (Irigaray 1985b).
Эти и другие жесты-реклейминги женской идентичности запустили ряд значимых попыток переопределения самости через реляционность и многослойность.
Новые модели самости
Динамическая и реляционная самость
Как мы видели, многие философки-феминистки утверждают, что ошибочно было бы считать, что одна лишь рациональность играет существенную роль в определении самости и что идеальная самость должна быть прозрачной, единой, связной и независимой, коль скоро они выделяют мизогинный подтекст в атомистическом индивидуализме кантианского этического субъекта и homo economicus (см. раздел 1). В то время как некоторые феминистки настаивают на реляционной модели автономности, другие отказываются от нарратива сепарации от материнской сферы как всеобъемлющего инструмента описания взросления. Опираясь на мультикультурные и глобальные источники, они полагают, что эта нарративная арка не соответствует сложной динамике многослойного, интерконнективной самости, которая может произрасти благодаря устойчивым общественным взаимодействиям, а не за счет решительного ограждения от них. В настоящем разделе мы обратимся к новым моделям реляционной самости. Эти понятия являются новаторским привнесением в философию самости, иногда заимствующим понятийный аппарат постструктурализма, психоанализа, теории нарратива и традиционных знаний. Философки-феминистки тяготеют к этим подходам, стремясь разобраться в проблеме самости, поскольку они не разделяют недостатков, выявленных их критикой кантианского этического субъекта и homo economicus. Ни в одном из этих подходов самость не определяется как гомогенная или прозрачная и не отделяется от культурного или межличностного контекста; тело также играет центральную роль.
Принимая психоаналитический подход, Юлия Кристева утверждает, что дети постепенно развивают автономность, независимость от тех, кто о них заботится, но усложняет этот сюжет, помещая классическое фрейдистское понятие самости с его различением между сознательным и бессознательным — в эксплицитно гендерно определенную модель (Kristeva 1980; Oliver 1993; McAfee 2003; Miller 2014). По мнению Кристевой, самость — субъект высказывания: это спикерка или спикер, использующие местоимение «Я». Однако спикер_ки не единичны и не могут всецело управлять своей речью из-за бифуркации дискурса. Символическое измерение языка, характеризующееся референциальными знаками и линейной логикой, соответствует сознанию и контролю. Семиотическое измерение языка, характеризующееся фигуративной речью, каденциями и интонациями, соответствует нерегулярному, подпитывающемуся страстями бессознательному. Дискурс в целом сочетает элементы обоих регистров. Такое содержание роднит теорию Кристевой с феминистскими идеями о гендере и самости. Коль скоро рациональную упорядоченность символического в нашей культуре принято ассоциировать с маскулинностью, хотя аффективно-нагруженный шарм семиотического ассоциируется с фемининностью, отсюда следует, что ни один дискурс не может быть ни исключительно маскулинным, ни исключительно фемининным.
Подобно бессознательному в классической психоаналитической теории, семиотика децентрализует самость. Мы можем попытаться выразить свои мысли при помощи четкой и непосредственной речи, однако в силу семиотических аспектов наших высказываний сказанное нами несет в себе не одно значение, а следовательно, будет поддаваться более чем одной интерпретации. С точки зрения Кристевой, это всё к лучшему, ведь доступ к семиотике — тому, что передается (зачастую непреднамеренно) посредством стилистических средств выражения — разжигает социальную критику. Семиотика дает выход вытесненному, бессознательному материалу. По мнению Кристевой, то, что общество систематически вытесняет, дает ключ к пониманию механизмов вытеснения, функционирующих в обществе, и того, как нам следует изменять общество. Таким образом, она выделяет важный этический потенциал в семиотике (Kristeva 1983 [1987]). Поскольку связь этического потенциала с фемининностью очевидна, концепция самости Кристевой, помимо прочего, смещает «маскулинную» приверженность принципам в качестве первичного модуса этической агентности, сознавая необходимость в «фемининном» этическом подходе. В то же время спорный-субъект-в-процессе Кристевой, казалось бы, закрепляет гендерную дихотомию, причиняющую женщинам столько неприятностей. Связь женщины/матери с непокорной и двусмысленной семиотикой может затруднить богатую гармонизацию аффектов и довербальных диалогов между родителем и его социально-ориентированными детьми (Willett 1995). Интерпретация Кристевой, предложенная Келли Оливер, отказывается от некоторых из этих более окрашенных гендерно компонентов концепции Кристевой, развивая реляционную концепцию самости, в которой заостряет внимание на способности к «ответной» любящей заботе об инаковости и различии (Oliver 1998). По мнению Оливер, самость плавно определяется посредством ее открытости Другому.
Вразрез с попытками переоценки материнства и/или фемининности, предпринятыми Кристевой и другими (см. раздел 2), постструктуралисты, представители критической теории расы и транс*феминист_ки подняли шумиху вокруг гетеросексистких и бинарных допущений, принятых в ряде феминистских концепций самости, а также по поводу их невнимания к иным формам различия между женщинами. Учитывая эти обстоятельства, многие феминистски выдвигают концепции самости, разработанные таким образом, чтобы охватить более широкий перечень подобных различий. Так, в ранней работе сторонницы постструктурализма Джудит Батлер утверждается, что тождество личности — это иллюзия (Butler 1990). Самость не более чем нестабильный дискурсивный узел, а идентичность, характеризующаяся половой/гендерной определенностью, — это «телесный стиль», имитация и повторяющееся утверждение норм; зачастую это те нормы, которых требует культурный контекст. По мнению Батлер, такие психодинамические концепции самости, как у Кристевой, маскируют перформативную природу самости, участвуя в культурном заговоре, утверждающем иллюзию, что мы обладаем устойчивой идентичностью, обусловленной нашей биологической природой (проявляющейся в гениталиях). Такие теории коварно скрывают способы проявления власти, с помощью которых нормализующие режимы в государстве и обществе закрепляют «естественные» в плане пола и гендера тела, противопоставляя их «неестественным» телам, замутняя произвольность ограничений, налагаемых для того, чтобы минимизировать сопротивление этим ограничениям. Решение проблемы, как считает Батлер, состоит в том, чтобы поставить под вопрос категории биологического пола, гендера и сексуальности, которые служат маркерами идентичности. Пол, гендер и сексуальная ориентация находятся в самой «сердцевине» самоидентичности, поскольку самоидентичность выстраивается посредством модусов власти.
В своей более поздней книге Батлер продолжает говорить о важности реляционного характера самости, обусловленного ее отчуждением самими дискурсивными структурами, за счет которых существует самость (Butler 2005).
Батлер также является одной из основных авторок феминистских теорий нарративной идентичности, одного из важнейших направлений современных феминистских теорий самости. Феминистские нарративные представления о самости занимают видное место как в англо-американской, так и в континентальной философских традициях. Адриана Кавареро утверждает т.н. «нарративизируемую самость» в качестве альтернативы самоконстируирующемуся предмету традиционной философии (Cavarero 1997). Такая самость не делает ставку на самонарратив; скорее, это дело Других — определить самость субъекта. По этой причине наррация о самих себе должна происходить в общественном и политическом контексте. Субъективность с необходимостью тянется к другим (Cavarero 1997). Батлер, отчасти опираясь на взгляды Кавареро, предполагает, что самость непрерывно конструируется путем описания себя для других (Butler 2005). Линда Мартин Алькофф сочетает постструктурализм с герменевтическим подходом, утверждая реляционный характер социальных идентичностей, а также их ключевую роль в самонарративе (Alcoff 2006). Память долгое время считалась локусом самоидентичности, а нарратив о своем жизненном пути неразрывно связан с памятью. Тем не менее феминистки говорят о реляционности нарратива и памяти, которые зачастую включают общинные социальные практики (Brison 2002; Campbell 2003). Вместо того, чтобы провозглашать идеал самопознания, предполагающую устойчивую самость, обнаруживаемую надежным, рациональным субъектом (=источником знания) в самой сердцевине повседневной жизни, феминистически настроенные нарративные теоретикессы отстаивают идею самоформирования в рамках контекстуальных практик. Здесь мы, опять же, видим, что с точки зрения феминисток онтология и метафизика самости неотделимы от этики, а также социальной и политической сфер.
Это также относится к квир- и транс* теории по мере того, как они пересекаются с феминистскими подходами. С точки зрения трансгендерных теоретиков, метафизические вопросы об идентичности действуют в рамках доминирующих дискурсов, которые зачастую поддерживают насилие и трансофобию, а также в субкультурах гомосексуалов и трансгендеров, которые динамично и совместно переопределяют гендерную и сексуальную идентичность (Bettcher 2014, 2016, 2017a, 2017b). Трансфеминистка Талия Мэй Бетчер отталкивается от мотивов трансидентичности, построенных на либеральных индивидуалистских моделях самости, в частности на идее о том, что трансиндивид могут быть «заперты в теле другого пола» и, совершив камингаут, они могут наконец высвободить свое истинное Я (Bettcher 2014). Бетчер утверждает, что идея истинного гендерного «я», сидящего внутри человека, упускает из виду то, что гендер и пол — это конструкты, созданные культурой (Bettcher 2014). Эта идея также имеет тенденцию укреплять дуализм сознания и тела, тогда как такие направления, как феноменология, показали, что гендерно определенная телесность является важной характеристикой самости. В этом плане Бетчер утверждает, что сексизм и трансфобия основаны на допущении некоей иерархии, в которой «надлежащая» внешность или определенная манера одеваться в публичных местах считается более важной, чем «интимная» внешность обнаженного человека. По мнению Беттчер, эти две формы внешнего вида фактически равны, поскольку они обе культурно обусловлены.
Транс* феминистские теории зачастую подчеркивают реляционный характер самости, подразумевая также способность других определять нашу самость.
Было бы также проблематично объяснить такое явление, как трансфобия. Как утверждают Алексис Шотвелл и Тревор Сангри, нежелание цисгендерных людей признавать транс* идентичности обусловлено тем, что самовыражение трансгендеров влияет на цисгендерную идентичность (Shotwell and Sangrey 2009). Шотвелл и Сэнгри пытаются развить этот аргумент, опираясь на феминистскую теорию самости, выдвинутую Брисоном. И хотя причиной трансфобии является реляционная конституция гендерной идентичности в рамках данной культуры, некоторые гомосексуальные и трансгендерные феминистки считают, что это также служит основанием само-трансформации. В частности, Ким К. Холл отмечает, что, согласно утверждениям, выдвигаемым квир-сообществами, трансформация человека происходит посредством трансформации своего тела. Такие творческие преобразования происходят в «контексте сообществ, оказывающих поддержку и признание» (Hall 2009). Они зачастую связаны с желанием интерсубъективного признания в случае, когда могут быть предприняты модификации тела, которые могут способствовать относительно непрерывному ощущению самости (Rubin, 2003). Это еще раз доказывает то, что публичная идентичность не удаляется из внутреннего ощущения себя, как это обычно предполагают в рамках либеральных индивидуалистских моделях. Эта непрерывность, однако, не должна опираться на нарратив о «ядре» внутренней самости, которое просто ищет одобрения со стороны публики. Напротив, интерсубъективное самовыражение может изначально отвергать дихотомию внутреннего и внешнего, следуя аргументам, аналогичным тем, что приводит Бетчер. Они также опираются на идеи феминистской феноменологии, разрушая мнимую двойственность природы и культуры, якобы наличествующую в телесности (Salamon 2010; Heyes 2007; Hale 1998). Хотя дискуссии в транс* теории и квир-теории зачастую разворачиваются не в контексте феминистской проблематики, акцент на живом воплощении, авторитете от первого лица и реляционном характере самости, часто фигурирующий в этих дискурсах, опирается на феминистские концепции самости, привнося в них решительный вклад.
Интерсекциональная и множественная самость
За последние несколько десятилетий все большее значение приобретают биосоциальные, интерсекциональные и феноменологические слои реляционной личности. Афроамериканские феминистски, развивающие интерсекциональные теории самости, отмечают, что такие стратификации социальных идентичностей, как пол, раса и класс, действуют как бы сообща (Williams 1991; Crenshaw 1993). Иными словами, эти аспекты идентичности взаимодействуют, создавая сложные эффекты. Таким образом, индивид представляет собой интерсекциональную самость или, если угодно, множественную самость, в которой сливаются структуры подчинения, а также структуры деятельности (Moraga, Anzaldúa, 1981; King 1988; Crenshaw 1993). Теория интерсекциональности стремится охватить те аспекты самости, которые обусловлены принадлежностью к угнетенной или привилегированным социальным группам. Желая подчеркнуть тяжесть положения тех, кто принадлежит более чем к одной угнетенной группе, Кимберли Креншоу сравнивает это с положением пешехода, сбитого одновременно несколькими едущими с большой скоростью автомобилями, а Мария Лугонес проводит аналогию с пограничными жителями, которым нигде не рады (Crenshaw 1991; Lugones 1992). Будучи «гражданином мира», Лугонес лавирует между латиноамериканским и англо-американским миром. Она предлагает образ «застывшей самости», стремясь тем самым указать на неоднородность самости, пребывающей в подобных условиях (Lugones 1994). Как считает Глория Анзалдуа, метиска (mestiza) — центральная фигура для понимания нового типа самости с неоднозначной, изменчивой идентичностью: метиска постоянно переживает некое промежуточное состояние, благодаря которому у нее формируется совершенно уникальные методы порождения смыслов. Как таковое, интерсекциональное пограничное существование может служить моделью позитивной идентичности, свидетельствующей о множественной природе личности (Anzaldúa, 1987; Ruíz 2016; Alarcón 1991, 1996; Barvosa 2008; Ortega 2016). «Пограничники» зачастую ощущают дискомфорт в этом мире, но это не следует воспринимать как что-то негативное. Ведь подобное положение образует уникальную призму для интерпретации нестабильной природы личности, а также открывает возможности для сопротивления подавляющим социальным нормам.
Некоторым феминисткам нравится вовсе отвергать единство самости, предполагая, что люди исполнены так называемым «богатством самостей», говоря словами Эдвины Барвоса (Barvosa 2008). Широко известен тезис Марии Лугонес о том, что «путешествие вокруг света» — это модус перемещения между взаимоисключающими самостями, проявляющимися в разных контекстах (Lugones 2003). Барвоса пытается объединить эти взаимоисключающие самости посредством жизненного проекта самоинтегрирования (Barvosa 2008). Мариана Ортега не согласна с обеими позициями, поскольку они отстаивают онтологический плюрализм: в одном человеке содержится несколько «я» (Ortega 2016). Для Ортега такая позиция неприемлема, поскольку в ней не учитывается тот факт, что самость должна характеризоваться некоей уникальной идентичностью. Чтобы отдать должное как уникальности «я», так и его множественности, Ортега утверждает, что «я» онтологически единственны, но экзистенциально множественны. По ее мнению, самости характеризуются уникальным множественным Я с различными аспектами, которые всегда находятся в процессе становления. Опираясь на идеи феноменологии, Ортега пытается показать, что самость переживает экзистенциальную непрерывность во времени, даже если ее роли и идентичности могут быть несоизмеримы в различных контекстах.
Теории множественной самости резонируют с «сестрой-аутсайдером» Лорд и «внутренним аутсайдером» Коллинз, которые, в отличие от подробно проработанной идеи У. Э. Б. Дюбуа о «двойном сознании», развивают идею множественной идентичности в связи с фигурой Другого. Эта идентичность прежде всего вращается не вокруг разделения между черными и белыми, которое занимает видное место у Дюбуа, и не вокруг современных теорий автономности, — а вокруг множественности ее ролей и источников энергии, понятии родства и сообщества. Как мы видели ранее, сторонники интерсекциональной самости полагают, что люди, ставшие жертвами всякого рода притеснений, наделены определенным эпистемическим преимуществом в силу пережитых ими страданий и отчуждения.
В то время как интерсекциональные теоретики продвигают расу, класс, физическое здоровье и другие социально-экономические маркеры в качестве значимых для психическо-исторических «размещений» агентности, власти и сообщения, ряд феминисток все больше обращает внимание на соматические и органические аспекты самости. Помимо переоценки телесности в теории аффектов и новых материалистических концепциях, о которых мы говорили выше (см. раздел 2), Катрин Малабу обращается к психическим расстройствам, таким как болезнь Альцгеймера, развивая постструктуралистские и психоаналитические модели самости (Malabou 2012). Болезни, имеющие физическую основу, служат камнем преткновения для любой концепции субъективности, спекулирующей исключительно на психической непрерывности сознательной и/или бессознательной жизни, описываемой психоаналитической теорией. Малабу, отталкиваясь от нередуктивной нейробиологии травм и повреждений мозга, переосмысливает деконструктивную самость Жака Деррида, описывая ее как решето, через которое проходят переживания инаковости. Травмированные самости могут испытывать радикальные разрывы или полностью утратить некоторые аспекты своего прежнего «я». Полученная в результате картина самости представляет собой многослойную связь отношений с психо-историческими и соматико-органическими слоями. В своей работе Катрин Малабу ясно показывает, что феминистская философия самости не может обойтись без естественнонаучных дисциплин.
Уиллетт сочетает этот поворот к биологическим и психологическим исследованиям аффектов и социальных эмоций с африканскими, латиноамериканскими и другими феминистскими традициями интерконнективной самости. Поскольку наш вид по своей сути социальный, самые базовые наклонности и аффекты человеческой самости являются просоциальными, а не нарциссическими или гедонистическими. Зрелость не предполагает обесценивания, вытеснения или травмирующей муштры, чтобы было было возможно социальное взаимодействие. Способность испытывать любовные или дружеские чувства и взаимодействовать с социальными группами характеризует человека как биологический вид. Как мы видели, одним из следствий биосоциальной определенности человека является отказ от мотива автономии как основной или исключительной цели саморазвития (Willett 1995, 2001). Самость созревает, благодаря раскрытию своих способностей и желанию формировать социальные связи, а не благодаря отрыву от источника зависимости (как правило, изображаемого в виде матери, тела и/или животный мир).
Еще одним следствием смешения биологического и социального аспектов является то, что теория интерсекциональности теперь распространяется на смешанные сообщества (Haraway 2008; Midgley 1983). Это эко-феминистское расширение этики эроса проистекает из пере-фокусировании этики на аффектах и эросе, а не на рациональных способностях, свидетельствующих о человеческом превосходстве и его отделении от других видов животных. Уиллетт выделяет четыре страты, представляющие связи между человеческими и нечеловеческими самостями, соответствующие типам социальных связей: 1) бессубъектная социальность, 2) аффективная гармонизация, 3) биосоциальная сеть как место обитания или жилище, и 4) сострадание и нутряная совесть («жилка») (Willett 2014). Эти четыре уровня показывают, что социальные аффекты, такие как смех или паника, передаются от одного существа к другому, как в случае со взрослым человеком и младенцем, так и внутри сообщества птиц; кроме того, они подчеркивают, что внутренние чувства, разделяемые между существами, являются ключевым источником моральной реакции. Биосоциальное расслоение самости предполагает, что для людей и любого иного животного вида, материнские отношения представляют собой нечто большее, чем механический инстинкт. Заряженная аффектами, реляционная самость не может выйти за пределы социальной встроенности в сложную политику маркирования своих и чужих. Как мы видели выше (см. раздел 2), правила, к которым апеллируют автономные самости, не гарантируют объективных решений. Во многом благодаря феминистской критике традиционных моделей самости и этики концепции, выдвигающие на передний план реляционную природу самости и ее гетерогенность, перемещаются в сердцевину этики. В то же время феминистки предлагают широкий спектр методологий и выводов в отношении этой реляционной самости, которые иногда противоречат друг другу, напоминая нам, что работа феминистской философии далека от завершения.
Заключение
Как показывает настоящая статья, в поле феминистских исследований проблемы самости существует колоссальное напряжение и множественность. Тем не менее, рассматривая литературу на эту тему, мы сталкиваемся с постоянно возникающим мотивом, а именно — мы наблюдаем неразрывную связь между метафизическими аспектами проблемы самости и этическими, социальными и политическими теориями. Феминистская критика господствующих философских теорий самости раскрывает нормативные предпосылки якобы нейтральной метафизики. Феминистский анализ агентного потенциала женщин одновременно констатирует традиционные социально обусловленные представления о фемининности и предлагает способы преодоления норм и практик, притесняющих женщин. Феминистские реконструкции природы самости переплетаются с аргументами, выявляющими выгодные с точки зрения эмансипации способы представления самости. Неудивительно, что в феминистской философии отсутствует вопрос о нормативности. Тем не менее нам следует отметить это обстоятельство, поскольку мы полагаем, что внимание феминисток к социо-политическим проблемам приводит к новым вопросам, которые обогащают философское понимание самости. Более того, мы хотели бы предостеречь читателя: подобная прямота касательно политических взглядов, свойственная нашим философским размышлениям, — это добродетель, ибо пренебрежение политическими допущениями и импликациями из эзотерических философских воззрений привело к серьезной путанице. В частности, большой ошибкой было бы считать, что не что иное, как узко метафизическая трактовка вопроса о самости, привела к имплицитной философской концептуализации самости, основанной на идее мужского субъекта — и именно эту тенденцию стремится исправить феминистский взгляд на проблему самости.
Библиография
Основная библиография
Из соображений краткости и читабельности в настоящей статье упоминаются лишь некоторые показательные работы из общего массива феминистской литературы на тему самости. Процитированные работы приведены в библиографии в следующем разделе. Однако феминистская литература на тему самости чрезвычайно обширна. Лиза Кассиди, Диана Титдженс Мейерс и Эмили Андерсон составили основной, гораздо более репрезентативный список литературы, в нем указаны все релевантные в нашем контексте книги и статьи. Данный библиографический список вставлен в настоящую статью в виде ссылки на дополнительную страницу:
Основная библиография к статье «Феминистский взгляд на проблему самости»
Мы призываем читателей ознакомиться с дополнительными источниками, перейдя по этой ссылке.
Источники
В статье упомянуты следующие работы:
● Бовуар, Симона де, Второй пол, Москва, Санкт-Петербург, Прогресс, Алетейя, 1997.
● Abramson, Kate, 2014, “Turning Up the Lights on Gaslighting”, in Philosophical Perspectives, 28(1): 1–30.
● Addelson, Kathryn Pyne, 1994, Moral Passages: Toward a Collectivist Moral Theory, New York: Routledge.
● Ahmed, Sara, 2004, The Cultural Politics of Emotion, New York: Routledge.
● –––, 2017, Living a Feminist Life, Durham and London: Duke University Press.
● Alarcón, Norma, 1991, “The Theoretical Subject(s) of This Bridge Called My Back and Anglo-American Feminism”, in Criticism in the Borderlands: Studies in Chicano Literature, Culture, and Ideology, Héctor Calderón and José David Saldívar (eds.), Durham, NC: Duke University Press, 28–40. doi:10.1215/9780822382355-005
● –––, 1996, “Conjugating Subjects in the Age of Multiculturalism”, in Mapping Multiculturalism, Avery F. Gordon and Christopher Newfield (eds.), Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 127–148.
● Alcoff, Linda Martin, 2006, Visible Identities: Race, Gender, and the Self, (Studies in Feminist Philosophy), New York: Oxford University Press. doi:10.1093/0195137345.001.0001
● –––, 2017, Rape and Resistance, Malden, MA: Polity Press.
● Al-Saji, Alia, 2014, “A Phenomenology of Hesitation: Interrupting Racializing Habits of Seeing”, in Living Alterities: Phenomenology, Embodiment, and Race, Emily Lee (ed.), Albany, NY: State University of New York Press, 133–172.
● Anzaldúa, Gloria, 1987, Borderlands: The New Mestiza/La Frontera, San Francisco: Spinters/Aunt Lute.
● Arruzza, Cinzia, Tithi Bhattacharya, and Nancy Fraser, 2019, Feminism for the 99%: A Manifesto, London and New York: Verso.
● Babbitt, Susan, 1993, “Feminism and Objective Interests: The Role of Transformation Experiences in Rational Deliberation”, in Feminist Epistemologies, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.), New York: Routledge, 245–265.
● Baier, Annette C., 1987, “The Need for More than Justice”, Canadian Journal of Philosophy, 17(sup1): 41–56. doi:10.1080/00455091.1987.10715928
● Bartky, Sandra Lee, 1990, Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression, New York: Routledge. doi:10.4324/9780203825259
● Barvosa, Edwina, 2008, Wealth of Selves: Multiple Identities, Mestiza Consciousness, and the Subject of Politics, College Station, TX: Texas A&M University Press.
● Benhabib, Seyla, 1999, “Sexual Difference and Collective Identities: The New Global Constellation”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 24(2): 335–361. doi:10.1086/495343
● –––1992, Situating the Self, Cambridge: Polity.
● Benhabib, Seyla, Judith Butler, Drucilla Cornell, and Nancy Fraser, 1995, Feminist Contentions: A Philosophical Exchange, New York: Routledge. doi:10.4324/9780203825242
● Benjamin, Jessica, 1988, The Bonds of Love, New York: Random House.
● Bettcher, Talia Mae, 2014, “Trapped in the Wrong Theory: Rethinking Trans Oppression and Resistance”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 39(2): 383–406. doi:10.1086/673088
● –––, 2016, “Intersexuality, Transgender, and Transsexuality”, in Disch and Hawkesworth 2016, 407–427.
● –––, 2017a, “Trans Feminism: Recent Philosophical Developments: Recent Philosophical Developments”, Philosophy Compass, 12(11): e12438. doi:10.1111/phc3.12438
● –––, 2017b, “Through the Looking Glass: Trans Theory Meets Feminist Philosophy”, in Garry, Khader, Stone 2017, 393–404.
● Bordo, Susan, 1993, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body, Berkeley, CA: University of California Press.
● Braidotti, Rosi, 2006, Transpositions: On Nomadic Ethics, Malden, MA: Polity Press.
● –––, 2016, “Posthuman Feminist Theory”, in Disch and Hawkesworth 2016, 673–698.
● Brennan, Teresa, 2004, The Transmission of Affect, Ithaca, NY: Cornell University Press.
● Brison, Susan J., 2002, Aftermath: Violence and the Remaking of a Self, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
● –––, 2017, “Personal Identity and Relational Selves”, in Garry, Khader, Stone 2017, 218–230.
● Brown, Wendy, 1998, Manhood and Politics: A Feminist Reading in Political Theory, Totowa, NJ: Rowman and Littlefield.
● Butler, Judith, 1990, “Gender Trouble, Feminist Theory, and Psychoanalytic Discourse”, in Feminism/Postmodernism, Linda J. Nicholson (ed.), New York: Routledge, chapter 13.
● –––, 2005, Giving an Account of Oneself, New York: Fordham University Press.
● Butler, Judith, and Athena Athanasiou, 2013, Dispossession: The Performative in the Political, Malden, MA: Polity Press.
● Cahill, Ann J., 2001, Rethinking Rape, Ithaca and London: Cornell University Press.
● Campbell, Sue, 2003, Relational Remembering: Rethinking the Memory Wars, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
● Card, Claudia, 1996, The Unnatural Lottery: Character and Moral Luck, Philadelphia, PA: Temple University Press.
● Cavarero, Adriana, 1997 [2000], Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Milan: Giagiacomo Feltrinelli. Translated as Relating Narratives: Storytelling and Selfhood, Paul A. Kottman (trans), (Warwick Studies in European Philosophy), London: Routledge, 2000.
● –––, 2016, Inclinations: A Critique of Rectitude, Stanford: Stanford University Press.
● Chodorow, Nancy, 1981, “On ‘The Reproduction of Mothering’: A Methodological Debate, part 4”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 6(3): 500–514. doi:10.1086/493820
● Code, Lorraine, 1987, “Second Persons”, Canadian Journal of Philosophy, 17(sup1): 357–382. doi:10.1080/00455091.1987.10715942
● –––, 2011, “Self, Subjectivity, and the Instituted Social Imaginary”, in The Oxford Handbook of the Self, Shaun Gallagher (ed.), New York: Oxford University Press.
● Collins, Patricia Hill, 1990, Black Feminist Thought: Knowledge, Consiousness, and the Politics of Empowerment, Boston: Unwin Hyman.
● Crenshaw, Kimberlé William, 1991, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics”, in Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender, Katherine T. Bartlett and Rosanne Kennedy (eds), Boulder, CO: Westview Press, chapter 4.
● –––, 1993, “Beyond Race and Misogyny: Black Feminism and 2 Live Crew”, in Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Mari J. Matsuda, Charles R. Lawrence III, Richard Delgado, and Kimberlé Williams Crenshaw (eds), Boulder, CO: Westview Press, chapter 5.
● Cudd, Ann E., 2006, Analyzing Oppression, New York: Oxford University Press. doi:10.1093/0195187431.001.0001
● de Lauretis, Teresa, 1986, “Feminist Studies/Critical Studies: Issues, Terms, Contexts”, in Feminist Studies/Critical Studies, Teresa de Lauretis (ed.), Bloomington, IN: Indiana University Press, chapter 1.
● DiQuinzio, Patrice, 1999, The Impossibility of Motherhood: Feminism, Individualism and the Problem of Mothering, New York: Routledge. doi:10.4324/9780203820704
● Disch, Lisa and Mary Hawkesworth (eds.), 2016, The Oxford Handbook of Feminist Theory, New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199328581.001.0001
● Feder, Ellen K., 2014, Making Sense of Intersex: Changing Ethical Perspectives in Biomedicine, Bloomington, IN: Indiana University Press.
● Fischer, Clara, 2014, Gendered Readings of Change: A Feminist-Pragmatist Approach, New York: Palgrave Macmillan US. doi:10.1057/9781137342720
● Fricker, Miranda, 2007, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford: Oxford University Press.
● Friedman, Marilyn A., 1993, What are Friends For?, Ithaca, NY: Cornell University Press.
● Garry, Ann, Serene J. Khader, and Alison Stone (eds.), 2017, The Routledge Companion to Feminist Philosophy, New York: Routledge. doi:10.4324/9781315758152
● Gilligan, Carol, 1982, In a Different Voice, Cambridge, MA: Harvard University Press.
● –––, 1987, “Moral Orientation and Moral Development”, in Kittay and Meyers 1987: 31–46.
● Govier, Trudy, 1993, “Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem”, Hypatia, 8(1): 99–120. doi:10.1111/j.1527-2001.1993.tb00630.x
● Grosz, Elizabeth, 1994, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington, IN: Indiana University Press.
● Hale, C. Jacob, 1998, “Tracing a Ghostly Memory in My Throat: Reflections on Ftm Feminist Voice and Agency”, in Men Doing Feminism, Tom Digby (ed), New York: Routledge, 99–130.
● Hall, Kim Q., 2009, “Queer Breasted Experience”, in “You’ve Changed”: Sex Reassignment and Personal Identity, Laurie J. Shrage (ed.), New York: Oxford University Press, chapter 7.
● Haraway, Donna, 2008, When Species Meet, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
● Hekman, Susan J., 1995, Moral Voices, Moral Selves, University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
● Held, Virginia, 1987, “Feminism and Moral Theory”, in Kittay and Meyers 1987, pp. 111–128. Also in Meyers 1997: chapter 32.
● –––, 2006, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global, New York: Oxford University Press. doi:10.1093/0195180992.001.0001
● Heyes, Cressida, 2007, Self-Transformations: Foucault, Ethics, and Normalized Bodies, New York: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195310535.001.0001
● Irigaray, Luce, 1985a, Speculum of the Other Woman, Ithaca, NY: Cornell University Press.
● –––, 1985b, This Sex which is not one, Ithaca, NY: Cornell University Press.
● –––, 1993, Ethics of Sexual Difference, Ithaca, NY: Cornell University Press.
● Jaggar, Alison M., 1983, Feminist Politics and Human Nature, Totowa, NJ: Rowman & Littlefield.
● Khanna, Ranjana, 2012, “Touching, Unbelonging, and the Absence of Affect”, Feminist Theory, 13(2): 213–232. doi:10.1177/1464700112442649
● King, Deborah K., 1988, “Multiple Jeopardy, Multiple Consciousness: The Context of a Black Feminist Ideology”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 14(1): 42–72. Also in Meyers 1997: chapter 12. doi:10.1086/494491
● Kittay, Eva Feder, 1999, Love's Labor, New York: Routledge.
● Kittay, Eva Feder and Diana T. Meyers (eds.), 1987, Women and Moral Theory, Totowa, NJ: Rowman & Littlefield.
● Koziej, Stephanie, 2019, “Towards a Tender Sexuality: From Freud’s Implicit Taboo on Adult Erotic Tenderness, to the Unexplored Tender Critical Potential of Mitchell and Perel’s Clinical Practice.”, Psychoanalytic Psychology, 36(4): 342–350. doi:10.1037/pap0000258
● Kristeva, Julia, 1980, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, Leon S. Roudiez (ed.). Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez (trans.), (European Perspectives), New York: Columbia University Press. Translation of several of her French essays.
● –––, 1983 [1987], Histoires d’amour, Paris: Editions Denoël. Translated as Tales of Love, Leon S. Roudiez (trans.), New York: Columbia University Press, 1987.
● –––, 1988 [1991], Étrangers à Nous-Mêmes, Paris: Fayard. Translated as Strangers to Ourselves, Leon S. Roudiez (trans.), (European Perspectives), New York: Columbia University Press, 1991.
● LaChance Adams, Sarah, 2014, Mad Mothers, Bad Mothers, and What a ‘Good’ Mother Would Do: The Ethics of Ambivalence, New York: Columbia University Press.
● LaChance Adams, Sarah and Caroline R. Lundquist (eds), 2012, Coming to Life: Philosophies of Pregnancy, Childbirth, and Mothering, New York: Fordham University Press.
● Lindemann, Hilde, 2014, Holding and Letting Go: The Social Practice of Personal Identities, Oxford: Oxford University Press.
● Lloyd, Genevieve, 1984, The Man of Reason “male” and “Female” in Western Philosophy, London: Methuen.
● Lorde, Audre, 2007, Sister Outsider: Essays and Speeches, Berkeley, CA: Crossing Press.
● Lugones, María, 1992, “On ‘Borderlands/La Frontera’: An Interpretive Essay”, Hypatia, 7(4): 31–37. doi:10.1111/j.1527-2001.1992.tb00715.x
● –––, 1994, “Purity, Impurity, and Separation”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 19(2): 458–479. doi:10.1086/494893
● –––, 2003, Pilgrimages/Perigrinajes: Theorizing Coalition Against Multiple Oppressions, Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield.
● Lugones, María C. and Elizabeth V. Spelman, 1983, “Have We Got a Theory for You! Feminist Theory, Cultural Imperialism and the Demand for ‘the Woman’s Voice’”, Women’s Studies International Forum, (Hypatia) 6(6): 573–581. doi:10.1016/0277-5395(83)90019-5
● Malabou, Catherine, 2012, The New Wounded: From Neurosis to Brain Damage, New York: Fordham University Press.
● Mackenzie, Catriona, 2014, “The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for and Ethics of Vulnerability”, in Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy, Catriona Mackenzie, Wendy A. Rogers, and Susan Dodds (eds), New York: Oxford University Press, 33–59. doi:10.1093/acprof:oso/9780199316649.003.0002
● –––, 2017, “Feminist Conceptions of Autonomy”, in Garry, Khader, Stone 2017, 515–527.
● Manne, Kate, 2019, Down Girl, Oxford: Oxford University Press.
● McAfee, Noelle, 2003, Julia Kristeva, New York: Routledge.
● –––, 2019, Fear of Breakdown: Politics and Psychoanalysis, New York: Columbia University Press.
● McDonagh, Eileen L., 1996, Breaking the Abortion Deadlock, New York: Oxford University Press.
● Meyers, Diana Tietjens, 1989, Self, Society, and Personal Choice, New York: Columbia University Press.
● –––, 1994, Subjection and Subjectivity, New York: Routledge.
● ––– (ed.), 1997, Feminist Social Thought: A Reader, New York: Routledge. doi:10.4324/9780203705841
● –––, 2000, “Intersectional Identity and the Authentic Self? Opposites Attract!”, in Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Automony, Agency, and the Social Self, Catriona Mackenzie and Natalie Stoljar (eds.), New York: Oxford University Press, 151–180.
● Midgley, Mary, 1983, Animals and Why They Matter: A Journey Around the Species Barrier, Athens, GA: University of Georgia Press.
● Miller, Elaine P., 2014, Head Cases: Julia Kristeva on Philosophy and Art in Depressed Times, New York: Columbia University Press.
● Moraga, Cherríe, and Gloría Anzaldúa, 1981, This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color, Albany: State University of New York Press.
● Nedelsky, Jennifer, 1989, “Reconceiving Autonomy: Sources, Thoughts and Possibilities”, Yale Journal of Law & Feminism, 1(1): 7–36.
● Nzegwu, Nkiru Uwechia, 2006, Family Matters: Feminist Concepts in African Philosophy of Culture, Albany, NY: State University of New York Press.
● Oksala, Johanna, 2016, Feminist Experiences: Foucauldian and Phenomenological Investigations, Evanston, IL: Northwestern University Press.
● Oliver, Kelly, 1993, Reading Kristeva: Unraveling the Double Bind, Bloomington, IN: Indiana University Press.
● –––, 1998, Subjectivity Without Subjects: From Abject Fathers to Desiring Mothers, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
● Ortega, Mariana, 2016, In-Between: Latina Feminist Phenomenology, Multiplicity, and the Self, Albany, NY: State University of New York Press.
● Piper, Adrian M.S., 1990, “Higher-Order Discrimination”, InIdentity, Character and Morality: Essays in Moral Psychology, Owen Flanagan and Amélie Okensberg Rorty (eds), Cambridge, MA: MIT Pressm, 285–309.
● Rawlinson, Mary, 2016, Just Life: Bioethics and the Future of Sexual Difference, New York: Columbia University Press.
● Rodemeyer, Lanei, 1998, “Dasein Gets Pregnant”:, Philosophy Today, 42(supplement): 76–84. doi:10.5840/philtoday199842Supplement65
● Rubin, Henry, 2003, Self-Made Men: Identity and Embodiment Among Transsexual Men, Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
● Ruddick, Sara, 1989, Maternal Thinking, Boston, MA: Beacon Press.
● Ruíz, Elena Flores, 2016, “Linguistic Alterity and the Multiplicitous Self: Critical Phenomenologies in Latina Feminist Thought”, Hypatia, 31(2): 421–436. doi:10.1111/hypa.12239
● Salamon, Gayle, 2010, Assuming a Body: Transgender and Rhetorics of Materiality, New York: Columbia University Press.
● Scheman, Naomi, 1993, Engenderings: Constructions of Knowledge, Authority, and Privilege, New York: Routledge.
● Scuro, Jennifer, 2017, The Pregnancy ≠ Childbearing Project: A Phenomenology of Miscarriage, Lanham, MD: Rowman and Littlefield
● Shotwell, Alexis and Trevor Sangrey, 2009, “Resisting Definition: Gendering through Interaction and Relational Selfhood”, Hypatia, 24(3): 56–76. doi:10.1111/j.1527-2001.2009.01045.x
● Sparks, Holloway, 2015, “Mamma Grizzlies and Moral Guardians of the Republic: The Democratic and Intersectional Politics of Anger in the Tea Party Movement”, New Political Science, 37(1): 25–47.
● Stein, Edith, 1996, Essays on Woman: The Collected Works of Edith Stein, Freda Mary Oben (trans.), Washington, DC: ICS Publications.
● Sullivan, Shannon, 2001, Living Across and Through Skins: Transactional Bodies, Pragmatism, and Feminism, Bloomington, IN: Indian University Press.
● –––, 2015, The Physiology of Sexist and Racist Oppression, New York: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780190250607.001.0001
● Valian, Virginia, 1998, Why So Slow? The Advancement of Women, Cambridge, MA: MIT Press.
● Walther, Gerda, 1923, “Zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften (mit einem Anhang zur Phänomenologie der sozialen Gemeinschaften)”, Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung, 6: 1–158. [Walther 1923 available online]
● Weir, Allison, 1995, “Toward a Model of Self-Identity: Habermas and Kristeva”, In Feminists Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse, Johanna Meehan (ed.), New York: Routledge, 263–282.
● Weiss, Gail, 1999, Body Images: Embodiment as Intercorporeality, New York: Routledge.
● –––, 2008, Refiguring the Ordinary, Bloomington, IN: Indiana University Press.
● Welsh, Talia, 2013, The Child as Natural Phenomenologist: Primal and Primary Experience in Merleau-Ponty's Psychology , Evanston, IL: Northwestern University Press.
● Willett, Cynthia, 1995, Maternal Ethics and Other Slave Moralities, New York: Routledge.
● –––, 2001 The Soul of Justice: Social Bonds and Racial Justice, Ithaca, NY: Cornell University Press.
● –––, 2008, Irony in the Age of Empire: Comic Perspectives on Freedom and Democracy, Indianapolis: Indiana University Press.
● –––, 2014, Interspecies Ethics, New York: Columbia University Press.
● Willett, Cynthia and Julie Willett, 2019, Uproarious: How Feminists and Other Comic Subversives Speak Truth, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
● Williams, Patricia J., 1991, The Alchemy of Race and Rights, Cambridge, MA: Harvard University Press.
● Wollstonecraft, Mary, 1792 [1982], A Vindication of the Rights of Woman, London. Reprinted, Miriam Brody Dramnick (ed.), New York: Penguin, 1982.
● Young, Iris Marion, 1990, Throwing Like a Girl and Other Essays In Feminist Philosophy and Social Theory, Bloomington, IN: Indiana University Press.