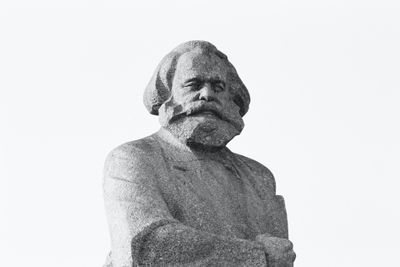Критическая теория
- Критическая теория как метафилософия: философия, идеология и истина
- Демократия как практическая цель критики: от идеологии к социальным фактам
- Критическая теория, прагматическая эпистемология и общественные науки
- Новый идеал мультиперспективной демократии: Европейский союз
- Заключение: критическая теория и нормативные исследования
- Библиография
Впервые опубликовано 8 марта 2005 года
Понятие «критическая теория» имеет узкий и широкий смысл в философии и в истории общественных наук.
Согласно этим теоретикам, «критическую» теорию можно отличить от «традиционной» теории на основании наличия специфической практической цели: некая теория является критической в той степени, в которой она ищет для человека «освобождения от рабства», производит «освобождающее… воздействие» и работает над «созданием такого мира, который будет удовлетворять потребностям и возможностям людей» (Horkheimer 1972: 246).
Они появились в связи с многочисленными социальными движениями, которые рассматривают различные аспекты господства, осуществляемого человеческими существами в современных обществах. Однако как в широком, так и в узком смысле критическая теория обеспечивает дескриптивную и нормативную основу для социальных исследований, направленных на уменьшение отношений господства и увеличение свободы во всех формах.
Критическая теория в узком смысле слова имела много разных аспектов и довольно отчетливых исторических фаз, которые проходят через несколько поколений, начиная с фактического возникновения Института социальных исследований в 1929–1930 годах, отмеченного появлением философов Франкфуртской школы и инаугурационной лекцией Макса Хоркхаймера, по настоящее время. Отличительные черты Критической теории как философского подхода, который распространяется на этику, политическую философию и философию истории, наиболее очевидны, если рассматривать ее в свете истории философии социальных наук. Представители Критической теории долго стремились обозначить специфику своих целей, методов, теорий и форм объяснения от стандартных взглядов, принятых как в естественных, так и в социальных науках. В противовес этим взглядам они утверждали, что социальным исследованиям стоит скорее примирить концептуальные противоречия между философией и социальными науками, нежели способствовать их разделению – пытаясь сочетать объяснение и понимание, структуру и процесс, регулярное и нормативное.
Они не просто стремятся обеспечить средства для достижения какой-то независимой цели, но скорее (как в знаменитом определении Хоркхаймера, упомянутом выше) стремятся к «эмансипации человечества» в условиях господства и угнетения. Эта нормативная задача не может быть решена без взаимодействия между философией и общественными науками посредством междисциплинарных эмпирических социальных исследований (Horkheimer 1993). Хотя критическая теория часто понимается узко, отсылая именно к Франкфуртской школе, которая начинается с Хоркхаймера и Адорно и продолжается вплоть до Маркузе и Хабермаса, «критической теорией» можно назвать и любой философский подход с аналогичными практическими целями, включая феминизм, критическую теорию расы и некоторые формы постколониальной критики. В данной статье термин «Критическая теория» с заглавной буквы будет относиться только к Франкфуртской школе. В остальных случаях подразумевается использование термина в более широком смысле и поэтому он пишется с маленькой буквы. Определенная «критическая теория» (в единственном числе – как понятие) не обозначается здесь заглавной буквой, даже если она разработана членами Франкфуртской школы в контексте их общего проекта «Критическая теория».
То есть она должна объяснять, чем неудовлетворительна имеющаяся социальная реальность, идентифицировать, какие акторы способны ее изменить, и предоставлять четкие нормы для критики, равно как и достижимые практические цели для социальной трансформации. Любая в действительности критическая теория общества, как ее далее определил Хоркхаймер в своих трудах, будучи директором Института социальных исследований Франкфуртской школы, «в качестве объекта исследования рассматривает людей как создателей своей собственной исторической формы жизни» (Horkeimer 1993: 21). В свете практической цели выявления и преодоления всех обстоятельств, ограничивающих свободу человека, объяснительная цель может быть достигнута только через междисциплинарные исследования, которые включают в себя психологические, культурные и социальные аспекты, а также изучение институциональных форм доминирования. Если учесть акцент, который первое поколение исследователей в рамках Критической теории делало на роли людей как самостоятельных творцов своей собственной истории, становится очевидной уникальная цель, к которой стремятся социальные исследования: трансформировать современный капитализм в форму социальной жизни, основанную на всеобщем согласии. Для Хоркхаймера капиталистическое общество может быть преобразовано только путем превращения его в более демократичное, когда «все условия общественной жизни, которые контролируются людьми, будут зависеть от действительного согласия», имеющего место в рациональном обществе (Horkheimer 1972: 249–250). Следовательно, нормативная ориентация Критической теории – по крайней мере, когда она принимает форму критических социальных исследований, – направлена на превращение капитализма в «реальную демократию», в которой мог бы осуществляться такой контроль (Horkheimer 1972: 250). Такие формулировки указывают на разительное сходство между Критической теорией и американским прагматизмом.
Сегодня для работ Юргена Хабермаса продолжают быть характерными пристальное внимание к демократии как к полю, предоставляющему возможности для совместной практической и преобразующей деятельности, а также попытки определить природу и границы «реальной демократии» в сложных плюралистических и глобализирующихся обществах.
Как и следовало ожидать от такого амбициозного философского проекта, Критическая теория содержит многочисленные противоречия. В дальнейшем я буду развивать те аргументы Критической теории, которые связаны с ее всеобщим философским проектом. Во-первых, я исследую ее основные философские ориентации, или метафилософию. В своих попытках объединить эмпирические социальные исследования и нормативную философскую аргументацию критическая теория сегодня представляет собой жизнеспособную альтернативу для социальной и политической философии. Во-вторых, я рассмотрю ее центральную нормативную теорию – то, как она относится к превращению кантовской этики автономии в концепцию свободы и справедливости, в которой демократия и демократические идеалы играют основную роль (Horkheimer 1993: 22; Horkheimer 1972: 203). Как представитель второго поколения Критической теории, Юрген Хабермас, в частности, разрабатывал этот аспект нормативной политической теории, соперничая с конструктивизмом, который разрабатывал Джон Ролз, пытаясь привести наши предтеоретические интуитивные представления к рефлексивному равновесию. В третьей части статьи я рассмотрю эмпирическую ориентацию, которую Критическая теория принимает в практических социальных исследованиях, нацеленных на установление демократических норм. Фундаментальное противоречие возникает между всеобъемлющей социальной теорией, которая обеспечивает теоретическую основу для социальной критики, и более плюралистическим и практическим направлением, которое не считает, что какая-либо конкретная теория или методология может быть определяющей для Критической теории как таковой. Таким образом, неразрешенное противоречие между эмпирическими и нормативными аспектами критической теории, направленной на реализацию человеческой свободы, проявляется во всех основных достижениях этого проекта, которыми ему обязана философия, взаимодействующая с социологией. В конце я проанализирую тот вклад, который Критическая теория внесла в дискуссию о глобализации, где речь идет о потенциальной трансформации как демократических идеалов, так и институций.
Критическая теория как метафилософия: философия, идеология и истина
Лучший способ показать, в чем заключается специфический философский подход, который предлагает Критическая теория, – это расположить ее в историческом контексте, который образует немецкая идеалистическая философия вкупе с ее наследниками. Для Маркса и его поколения Гегель был последним представителем великой традиции философского мышления, способного обеспечить нас надежным знанием о человечестве и его истории. Основной же проблемой для левых гегельянцев и для Маркса стала необходимость превзойти гегельянскую «теоретическую» философию, и Маркс утверждал, что возможность этого состоит только в том, чтобы сделать философию «практической», то есть изменяющей те практики, посредством которых различные общества реализуют свои идеалы. Критическая теория разработала такую версию этой идеи, которая исходит из иных предпосылок, нежели скептические, непосредственно связывая философию с гуманитарными и социальными науками. Благодаря этому она может также ввести в контекст эмпирических и интерпретативных социальных исследований те нормативные утверждения, касающиеся истины, морали и справедливости, которые традиционно находятся в ведении философии. Разделяя особую склонность к нормативности и универсалистским амбициям, присущим философской традиции, критическая теория реализует эти амбиции в конкретных эмпирических социальных исследованиях, с которыми ей необходимо взаимодействовать, чтобы осмыслять подобные нормативные утверждения в текущем историческом контексте. Представив две основные версии этого понимания философии, обратимся к примеру, поясняющему, каким образом работает это взаимодействие между философией и социальными науками с точки зрения ключевых фигур Критической теории, которые стремились внести вклад в ее разработку:
Даже если рассматривать представителей Критической теории как объединенных одним общим философским проектом, этот пример показывает существенные различия между первым и вторым поколением исследователей, касающиеся нормативного оправдания социальной критики.
В Новое время философия определяет свою специфическую роль по отношению к наукам. Если для Локка философия – это лишь «служанка» наук, то для Канта она имеет более возвышенный статус. Как утверждает Ричард Рорти и другие авторы, трансцендентальная философия играет две разные роли: во-первых, она выступает как трибунал Разума, высший апелляционный суд, перед которым научные дисциплины предстают и должны оправдываться, а во-вторых – как область, в которой рассматриваются нормативные вопросы, оказавшиеся вне компетенции естественнонаучных исследований. В свете этой способности судить о результатах наук, философия также может организовывать области знаний, назначая каждой из них свою сферу и диапазон применения. Кантовское решение отрицает необходимость прямого сотрудничества с науками по вопросам, связанным с нормативностью, поскольку они были определены независимо через трансцендентальный анализ универсальных и необходимых условий для разума в его теоретическом и практическом применении. Отголоски последующей постгегелевской критики трансцендентальной философии Канта обнаруживаются в ранних работах Макса Хоркхаймера и Герберта Маркузе. Действительно, Хоркхаймер критикует «традиционную теорию», отвергая репрезентативную идею знания, а также концепцию внеисторического субъекта. Поддерживая Маркса в «Немецкой идеологии», Хоркхаймер настаивает на том, что для критической теории «мир и субъективность во всех ее формах развивается вместе с жизненными процессами общества» (Horkheimer 1972: 245). Как и некоторые современные естествоиспытатели, он утверждал, что «материализм требует объединения философии и науки», тем самым отрицая какое-либо сущностное различие между ними (Horkheimer 1993: 34). Согласно тому, как Хоркхаймер понимал задачи Критической теории, философские проблемы сохраняются, так как продолжают играть роль в определении проблем для исследований, а философская рефлексия удерживает за собой привилегированную роль в упорядочиванию и организации результатов эмпирических исследований в единое целое.
Это понимание отношений философии и науки в широком смысле остается кантианским. Даже отвергая роль философии как трансцендентального судьи, Хоркхаймер по-прежнему признает за ней нормативную роль в той мере, в которой она остается способна систематизировать требования эмпирических форм знания и назначать каждой из них роль в нормативном проекте рефлексии об исторически и социально контекстуализированных разумных доводах.
Согласно этой концепции материализма, Критическая теория могла бы действовать в соответствии с теоретическим разделением труда, при котором нормативная позиция философии состояла бы в том, чтобы критиковать воплощения разума и морали в соответствии с их внутренними критериями. По крайней мере, для современных обществ такая возможность «имманентной критики» была возможна (см. напр. Horkheimer 1993: 39). Однако Хоркхаймер и Маркузе рассматривали скептическую и релятивистскую позицию новой социологии знания, особенно у Карла Маннгейма, как полную противоположность таковой у Критической теории. Как утверждает Маркузе, «социология, которая заинтересована только в обусловленной и ограниченной природе сознания, не имеет ничего общего с истиной. Несмотря на полезность во многих отношениях, она искажает интересы и цели любой критической теории» (Marcuse 1969: 152). В отличие от критики, занятой лишь разоблачением, «критическая теория озабочена предотвращением утраты истин, ради достижения которых познание упорно трудилось в прошлом».
Хоркхаймер таким образом формулирует скептическую ошибку, которая легла в основу большей части социологически обоснованного релятивизма его эпохи: «То, что все наши мысли, истинные или ложные, зависят от внешних условий, которые могут изменяться, никоим образом не затрагивает обоснованность научного знания. Неясно, почему обусловленный характер мышления должен влиять на истинность какого-либо суждения – почему не может прозрение быть настолько же обусловлено, как и ошибка?» (Horkheimer 1993: 141). Главная мысль здесь заключается в том, что фаллибилизм отличается от релятивизма, то есть предполагается, что можно провести различие между истиной и контекстом обоснования конкретных утверждений истинности.
Столкнувшись с социологическим натурализмом, который релятивизирует необходимость истины и справедливости, можно было бы ответить на этот вызов, лишив истину трансцендентального характера, но без того, чтобы она утратила при этом свою нормативность (Horkheimer 1993: 6; McCarthy, in McCarthy and Hoy 1994: 10). Разумеется, именно релятивизм зависит от неубедительной и антиисторической формы отстраненности и беспристрастности, что особым образом выражается в его методологических установках, направленных на «уважительную эмпатию и описание». Историцизм и социология знания предлагают такой вариант скептицизма, который в конечном итоге является лишь теоретическим, – это скептицизм абстрактного наблюдателя, который занимает отстраненную точку зрения из ниоткуда. Как только скептику приходится принять практическую установку, альтернативы такому книжному скепсису становятся неизбежными. В самом деле, критик обязан определить, чья практическая позиция лучше всего раскрывает эти возможности в качестве факторов для социальной трансформации текущих обстоятельств. Как я покажу в следующем разделе, Франкфуртская школа чаще всего применяла идеологическую критику в отношении либерального индивидуализма, указывая на его контекстуальные ограничения, которые приводят к пагубной редукционистской интерпретации демократических идеалов.
Во-первых, перед философией ставится задача организации социальных исследований и обеспечения практических целей этих исследований даже при том, что отсутствует доказательство ее эпистемологического преимущества перед этими науками. Более скромный подход, который являлся бы в полной мере эмпирическим, подходил бы в этой ситуации гораздо лучше, к тому же, его гораздо проще было бы защищать. Во-вторых, источник этой уверенности, кажется, имеет практический характер: критики должны имманентным образом открывать тех стремящихся к трансформации агентов, чьи усилия соответствуют данным нормативным положениям философии и направлены на их реализацию. Однако как только такая возможность практической реализации перестает казаться осуществимой, такой подход либо становится чисто философским, либо оборачивается против потенциальных возможностей настоящего. Действительно, подъем фашизма во время Второй мировой войны и коммерциализация культуры после нее привели к тому, что философы Франкфуртской школы приобрели скептическое отношение к самой возможности агентности, поскольку индивидуальные условия для социальной трансформации, по их мнению, были подорваны.
Очевидно, что в Диалектике Просвещения (Dialektik der Aufklärung, 1947) Хоркхаймер и Адорно отказались от этого междисциплинарного материалистического подхода с его акцентом на кооперации философии с общественными науками (Адорно и Хоркхаймер 1997, XI). Адорно и Хоркхаймер не отрицали достижений Просвещения, но скорее хотели указать на присущие ему «саморазрушительные тенденции», то есть на то, что специфические социальные, культурные и концептуальные формы Просвещения, реализованные в современной Европе, «содержали встроенную возможность инверсии, что на сегодняшний день очевидно повсюду» (Адорно и Хоркхаймер 1997, XIII). Так как Адорно и Хоркхаймер имели намерение предложить позитивный способ выйти из диалектики Просвещения, когда писали эти слова, инверсия заложенных в Просвещении возможностей ни в коем случае не является неизбежной. Даже если специфический исторический сюжет о появлении просвещенческого разума из мифа, который предлагают Хоркхаймер и Адорно, больше не является таким убедительным, недостаточно заявить вместе с Хабермасом, что Диалектика Просвещения несправедливо обходится с рациональным содержанием культуры Нового времени» (Habermas 1987: 103).
Если проблема заключается в способности Просвещения корректировать себя самостоятельно, то тут возникает два вопроса. Во-первых, почему эта способность подрывается? Во-вторых, где мы можем локализовать осуществление этой способности?
На фоне этого скептического затруднения, свойственного первому поколению философов, разрабатывавших Критическую теорию, можно без преувеличения сказать, что основная философская задача Хабермаса – от работы Познание и интерес до книги Теория коммуникативного действия – состояла в разработке более умеренного, фаллибилистического и эмпирического понимания философских требований универсальности и рациональности. Этот более умеренный подход очищает Критическую теорию от пережитков трансцендентальной философии, подталкивая ее в натуралистическом направлении. Такой натурализм выявляет более специфические формы социально-научного знания, которые помогают развитию анализа общих условий рациональности, проявляющихся в различных способностях и возможностях, присущих людям. Таким образом, альтернатива, которую предлагает Хабермас, состоит в том, чтобы рассматривать практическое знание (или «разум» в здравом значении этого термина) как оно «воплощено в когнитивной деятельности, речи и поступках» (Habermas 1984: 10). Хабермасу необходимы конкретные «реконструктивные науки», чья цель состоит в том, чтобы сделать теоретически эксплицитным интуитивное предтеоретическое знание, лежащее в основе таких базовых человеческих способностей как речь и понимание, суждение и действие.
Тем не менее, они направлены на всеобщие структуры и обстоятельства и выдвигают универсальные требования относительно понимания практического разума, которые, однако, могут быть подвергнуты пересмотру. Таким способом Хабермас ставит под сомнение обе традиционные кантианские роли, присущие философии, и вводит их в отношения всестороннего сотрудничества с общественными науками. Поэтому существует очевидное расхождение между двумя его вариантами критики идеологии, которая, с одной стороны, является контекстуалистской и антирелятивистской, а с другой – гарантирует свою собственную нормативность такими способами, которыми не могла бы это сделать критика идеологии в понимании Хоркхаймера и Маркузе, более склонная к трансцендентализму, учитывая неизбежное противоречие между философскими идеалами и историческими обстоятельствами, существующими в современных обществах и их практиках.
Как и ряд других подобных теорий, теория коммуникативного действия предлагает свое собственное особое определение рациональности. Следуя хорошему прагматическому стилю, определение Хабермаса является эпистемическим, практичным и интерсубъективным. Для Хабермаса рациональность состоит не столько в обладании знанием, что, таким образом, относилось бы в первую очередь к согласованности чьих-либо представлений и к их содержанию, сколько в том, «как говорящие и действующие субъекты усваивают и используют знания» (Habermas, 1984: 11). Столь широкое определение предполагает, что теория может быть развита путем объяснения общих и формальных условий достоверности в познании и достижении понимания посредством языка, и эта задача в основном сводится к «формальной прагматике». Будучи одной из многих «реконструктивных наук», такая реконструкция речи нормативна по своей сути в том смысле, что это одна из дисциплин, воссоздающих область всеобщего: «рациональное конструирование ноу-хау владеющих языком и дееспособных субъектов, которым доверено производство значимых высказываний и которые доверяют самим себе в том, чтобы по крайней мере интуитивно проводить различие между выражениями, имеющими силу и не имеющими таковой» (Хабермас 2001: 51).
Очевидно, что для Хабермаса подобные реконструктивные науки не только описывают практическое знание, являющееся имплицитно нормативным, но и имеют «квази-трансцендентальный» статус, определяя наиболее общие и формальные условия успешной коммуникации. Таким образом, их отношение к нормативному и к тем возможностям, которые необходимы для рациональности в том практическом и социальном смысле, который вкладывает в этот термин Хабермас, позволяет им выполнять критическую функцию. Конечно, целью реконструктивных наук является теоретическое знание: с их помощью становится эксплицитно ясным, чем являются практические социальные навыки. Но поскольку они способны выявлять условия осмысленных или корректных высказываний, они также объясняют, почему некоторые высказывания недействительны, некоторые речевые действия неудачны, и некоторые аргументы неадекватны. Следовательно, такие науки «объясняют и девиантные случаи, а благодаря этой своей дополнительной компетенции приобретают также критическую функцию» (Habermas, 1990: 32).
Такой подход может быть применен к нормативным признакам демократических практик. Демократия не только предоставляет набор эксплицитных принципов справедливости и институциональных правил принятия решений, но и является определенной структурой свободной и открытой коммуникации. Идеология накладывает ограничения на эти процессы коммуникации, ставит для них барьеры и разрушает условия их успешного осуществления.
Таким образом, теория идеологии анализирует способы использования символико-лингвистических значений, при помощи которых происходит кодирование, производство и воспроизведение отношений власти и господства, даже когда оно осуществляется в тех институциональных сферах коммуникации и взаимодействия, где все определяется стандартами, при помощи которых демократические идеалы становятся эксплицитными в нормативных процедурах и ограничениях. Выступая в качестве реконструкции тех потенциально верных интуиций, которые лежали в основе преувеличенного неприятия Марксом либерализма, теория искаженной коммуникации, таким образом, особенно хорошо подходит для анализа того, как смыслы используются для воспроизведения власти даже в условиях эксплицитных правил равенства и свободы. Это не означает, что эксплицитные правила не важны: они позволяют ограничивать откровенные формы принуждения и власти, противозаконность которых не требует обращения к нормам, имплицитно проявляющимся на практике.
Данные нормы часто открыто нарушаются действиями власти, которая в этих случаях пользуется различными предлогами, такими как забота о благосостоянии, обеспечение безопасности или сохранение культуры. Помимо ограничения эксплицитных прав, такое принуждение также посягает на свободу коммуникации, которая выражается в том, что ее участники могут игнорировать необходимость выбирать из предложенной им альтернативы «да/нет», когда принимают решения. Хабермас называет речь, которая не зависит от названных выше условий коммуникативной рациональности, «искаженной коммуникацией». Например, влиятельные экономические группы исторически были в состоянии преследовать свои цели без того, чтобы им было необходимо в открытую исключать из демократических дискуссий нежелательные вопросы, но действуя с помощью косвенных угроз и других средств, позволяющих обойти необходимость обсуждения (Przworski and Wallerstein 198: 12–29; Bohman 1997: 338–339). Опасность сокращения инвестиций блокирует схемы перераспределения, так что правдоподобные угрозы обходят необходимость доказывать другим обоснованность подобной политики или устанавливать демократический контроль над какой-либо проблемой. Аналогичным образом предвзятость в установлении программы действий в организациях и социальных институтах сужает масштабы обсуждений и ограничивает возможности политической коммуникации, определяя такие темы, которые благополучно могут стать предметом общественного согласия (Bohman 1990). Благодаря этому легко увидеть, как такой реконструктивный подход напрямую связан с социологическим анализом согласованности демократических норм с реальным политическим поведением.
Теория идеологии как искаженной коммуникации открывает возможность иных отношений теоретического и практического знания, нежели предполагалось Хабермасом. Его подход использует формальную прагматику философски, для рефлексии над нормами и практиками, которые уже эксплицитно приводятся в обоснованиях и оправданиях при различных видах аргументации или в коммуникации второго порядка. Данная рефлексия имеет подлинное практическое значение для получения эксплицитных правил, регулирующих дискурсивную коммуникацию (такие как правила аргументации), которые, в свою очередь, могут быть использованы для целей проектирования и реформирования совещательных и дискурсивных институтов (Habermas 1996: 230).
Такие имплицитные нормы правильно сформированных и коммуникативно успешных высказываний не идентичны эксплицитным правилам аргументации.
Эти утверждения о нормах создают две трудности. Во-первых, существует потенциальный регресс правил, то есть эксплицитные правила требуют дополнительных правил для своего применения и так далее. Во-вторых, этот подход не может отразить то, что чаще всего нормы скорее являются имплицитно присущими практической деятельности, нежели эксплицитно выраженными (Brandom 1994: 18–30). Здесь Хабермас принимает сторону Филипа Петтита, рассматривая в качестве центральной функции эксплицитных норм создание общих смыслов, которые могут служить основой для институционализации норм, или такого пространства, где содержание норм и концепций может быть выявлено для рационального осмысления и пересмотра (Pettit 1992, Хабермас 2001).
Есть еще одна возможная роль для философски подготовленного социального критика. Как мы уже наблюдали в случае идеологической речи, реконструктивные науки «также объясняют девиантные случаи и посредством этой дополнительной компетенции приобретают критическую функцию» (Habermas 1990: 32).
В этом разделе я рассмотрел утверждения, которые являются отличительными для метафилософии критической теории обоих поколений Франкфуртской школы, и проиллюстрировал способы, которыми критическая нормативность может быть реализована в их различающихся моделях критики идеологии.
Я показал, что теоретики первого поколения избегали релятивизма социологии знания, характерного, к примеру, для Маннгейма, лишь для того, чтобы впасть в практический скептицизм относительно целесообразности действий, осуществляемых агентами в соответствии с данными нормами в современных контекстах. Концепция Хабермаса о кооперации философии и общественных наук в рациональной реконструкции практических знаний позволяет ему сформулировать нормативную концепцию «реальной демократии» более полно и разработать концепцию демократии, обоснованную социальными науками, которая является альтернативой нынешним либеральным практикам. Этот проект смещает цель критических социальных исследований с эмансипации человека как таковой на основную заботу о демократических институтах как о месте реализации идеалов свободы и равенства. Ограничения, которые возникают перед любой такой реализацией, могут оказаться не просто идеологическими: Критическая теория также заинтересована в тех социальных фактах и обстоятельствах, которые препятствуют реализации идеальной демократии и заставляют нас пересматривать ее нормативное содержание. Хотя такое осмысление связи между фактами и нормами соответствует социологическому скептицизму относительно будущего демократии, характерному для Макса Вебера и некоторых других исследователей, возможно, оно основано на чрезмерно ограниченном понимании социальных фактов.
Демократия как практическая цель критики: от идеологии к социальным фактам
На начальных этапах Критическая теория старалась разработать нормативное понятие «реальной демократии», которое противопоставлялось политическим формам, фактически существующим в либеральных обществах. Демократическое общество было бы рациональным, поскольку люди могли бы обрести в нем «сознательный контроль» над социальными процессами, которые влияют на них и их жизненные возможности. В той степени, в которой такая цель вообще возможна, необходимо, чтобы люди становились «производителями своей социальной жизни во всей ее тотальности» (Horkheimer 1972: 244). Тогда такое общество становится «истинной» или экспрессивной тотальностью, преодолевая нынешнюю «ложную тотальность» – антагонистическое целое, в котором подлинные социальные потребности и интересы не могут быть выражены или развиты (Jay 1984). Такой позитивный экспрессивистский идеал социального целого, однако, не является антилиберальным, поскольку он разделяет с либерализмом приверженность рационализму и универсализму. Для следующего этапа в развитии критической теории особую важность приобрел вопрос об антидемократических тенденциях.
Большая часть этих исследований была посвящена антидемократическим тенденциям, в том числе все более тесным связям между государствами и рынком в развитых капиталистических обществах, появлению фашистского государства и авторитарной личности. Хоркхаймер пришел к выводу о том, что эти антидемократические тенденции постепенно подрывают реализацию экспрессивной тотальности, в результате чего «индивидуальность оказывается в безнадежной ситуации», поскольку субъективные условия для осуществления свободы и достижения солидарности разрушаются все более тотальной социальной реификацией (овеществлением).
Во-первых, он затрагивает сложный анализ противоположных психологических условий, лежащих в основе демократии и авторитаризма. Во-вторых, этот анализ был связан с социальной теорией, которая произвела описание объективных, широкомасштабных и долгосрочных исторических процессов реификации. Если эти факты и тенденции верны, то идея «истинной тотальности» является правдоподобной критической категорией. Однако это понятие плохо подходит для демократической теории из-за отсутствия ясности в отношении базового позитивного политического идеала Критической теории. В конечном итоге в ответ на эти нормативные ошибки Хабермас ищет способы развить промежуточный уровень анализа и новую нормативную концепцию в историческом анализе возникновения «публичной сферы» (Öffentlichkeit). Как показывает его более поздняя и более развитая нормативная теория демократии, основанная на макросоциологических социальных фактах о современных обществах, Хабермас предлагает умеренный и либеральный демократический идеал, основанный на публичном использовании разума в рамках эмпирических ограничений, возникающих благодаря сложности и дифференцированности современных обществ. Для Хабермаса эта социальная теория имеет определенные трудности, связанные с тем, чтобы поддерживать некоторые аспекты радикальной демократии в качестве экспрессивного и рационального идеала, который представители Критической теории первого поколения рассматривали как подлинную альтернативу либерализму.
Критика либерализма и «Диалектика Просвещения»
За исключением отдельных моментов в трудах философов Франкфуртской школы, посвященных достижению «реальной демократии» – то есть такого общества, которое будет основано на разуме, – существуют многочисленные работы этих философов о демократии, в которых ведется разработка критики либеральной идеологии, отсылающей к «еврейскому вопросу». Хоркхаймер выражает свое критическое отношение к буржуазной негативной свободе в таких выражениях: «Ограниченная свобода буржуазного индивида создает видимость иллюзорной формы совершенной свободы и автономии» (Horkheimer 1972, р. 241).
какой бы свободой и независимостью ни обладали акторы, лучше всего будет осмыслять их как «определенных индивидуумов», чья свобода осуществляется в отношении с другими в конкретных исторических обществах. О свободе реальных индивидов можно думать только холистическим образом как о возникающей «в результирующей сети отношений, существующих в тотальности социума, а также во взаимодействии с природой». Как и любая конструктивная критика идеологии, данный критический подход к либерализму является имманентным, поскольку использует сами либеральные нормы и ценности для того, чтобы судить об их исторической реализации в конкретных институциях. Как бы то ни было, данная критика идеологии признавала, что либерализм все еще, как выразился Маркузе, является «рационалистической теорией общества». Какая бы усовершенствованная теория ни пришла на смену либерализму, она должна будет пройти нормативные испытания, которые не проходят фашизм и другие возникающие формы антилиберализма: новая форма единства «должна будет предстать перед судом индивидуумов, чтобы показать, что она способна реализовать их потребности и возможности» (Marcuse 1968, р. 7). Используя гегелевскую терминологию, представители Критической теории стали рассматривать развитые капиталистические общества как «тотальность», в которой тесная интеграция государств и рынков несет опасность ликвидации пространства для свободы. Хотя появление фашизма является возможным доказательством данного факта, оно также представляет собой очевидный пример того, как внутренняя критика либерализма теряет свою адекватность.
Смещаясь по направлению к внешним формам критики с 1940-х годов, Франкфуртская школа года не ограничивается фашистским государством. По мере развития капитализма в его монопольной форме, либеральное наследие теряет присущий ему потенциал рациональности, поскольку политическая сфера все больше начинает функционировать в соответствии с принципами рынка и его реифицированных социальных отношений.
Такое общество теперь является «целиком ложной тотальностью». Работа Адорно и Хоркхаймера в тот период показывает философские последствия этого сдвига, особенно в работах Диалектика Просвещения (1944, 1947) и Затмение разума (1947).
Вместо того чтобы быть освобождающим и прогрессивным, разум превращается в средство подчинения и контроля, когда распространение получает инструментальный разум. Либеральные институции не избегают этого процесса и, более того, становятся его частью в процессе институционализации личных интересов и самосохранения, стремясь к «тотально управляемому обществу».
Он утверждает, что либеральная традиция, которую по мнению Маркузе необходимо оберегать, сохраняла свою нормативную силу лишь на метафизической основе «объективного разума». Базируясь на этом, либерализм, однако, зависел от субъективизации разума и объективных моральных принципов; субъекты провозглашаются «автономными», тогда как они погружены в гетерономию рыночных отношений. «Неизбежную» тенденцию либерализма коллапсировать в фашизм «можно вывести (помимо ее экономических причин) из внутреннего конфликта между субъективистким принципом эгоизма и идеей разума, его якобы выражающей». (Хоркхаймер 2011: 27). Будучи лишена своего объективного содержания, демократия сводится к простому правлению большинства, а общественное мнение становится некоторой количественно измеряемой величиной. Доказательства здесь в первую очередь являются генеалогическими (то есть имеющими в своей основе сюжет исторического возникновения и развития), а не вытекающими из результатов исследований социальных науках; это реконструкция истории западного разума или либерализма, в которой расчетливый инструментальный разум вытесняет утопическое стремление к всеобщей солидарности. Некоторая избавленная от оттенка доминирования альтернативная концепция разума появляется в религиозно окрашенном идеале отождествления со всеми страдающими существами, который предлагает Хоркхаймер, или в идее Адорно о миметическом примирении с Другим, которая обнаруживается главным образом в искусстве (Horkheimer 1972; Адорно 2014).
Некоторые из наиболее интересных общественно-научных исследований фашизма, которые Франкфуртская школа проделала в этот период, практически не были связаны с идеей генеалогии разума. Первое – это анализ политической экономии передовых регулируемых капиталистических обществ, в связи с чем стоит упомянуть Франца Ноймана, чья неортодоксальная идея о том, что никакое государство не может полностью контролировать социальные и экономические процессы, близка направлению мысли Хоркхаймера и Адорно в их критике инструментального разума. Особенно интересными были эмпирические исследования «авторитарного» и «демократического» типа индивидуальности, представляющие микросоциологию черт демократического и антидемократического характера (Adorno et al. 1953).
Вероятно, один из самых впечатляющих результатов этого исследования заключается в том, что смысловым центром демократического склада индивидуальности является особая эмоциональная или аффективная структура:
Таким образом, длительное историко-культурное развитие, макро- и микросоциологические тенденции направлены против демократического идеала. Источники сопротивления этим тенденциям все чаще могут быть обнаружены на том уровне, который Мишель Фуко назвал бы «микрополитическим».
Какими бы достоинствами ни обладали такие общеисторические концептуальные построения для критических интерпретаций настоящего,
В чем действительно существовала насущная потребность, так это в альтернативной концепции рациональности, которая бы не исчерпывалась в процессе упадка объективного разума, когда он превращается в субъективную личную заинтересованность. Эта базовая проблема Критической теории первого поколения была постоянной темой исследований Юргена Хабермаса, для которого именно публичность и, в более общем смысле, публичная сфера (Öffentlichkeit), занимают «правильное концептуальное пространство». Хабермас также заменяет экспрессивную тотальность всецело демократического общества идеалом «неповрежденной интерсубъективности» и универсальной солидарности, установленной посредством «коммуникации, свободной от доминирования». Со стороны социальной теории тотальность заменяется концепцией социальной комплексности, которая не является необходимым образом ложной или основанной на реификации. Эти сдвиги позволяют более позитивно переоценить либеральную традицию и существующие политические институты и раскрывают возможность критической социологии проблем легитимации современного государства. В целом Хабермас ознаменовал возвращение к нормативной теории, объединенной с более широким использованием эмпирической, реконструктивной и интерпретативной социальной науки.
Критика Хабермаса, напротив, укоренена в повседневной коммуникативной деятельности. По сути, он пришел к тому, что социальную теорию первого поколения с ее приверженностью холизму уже нельзя примирить с центральным для Критической теории историческим сюжетом: возможным появлением более здравой и подлинной формы демократии.
Структурная трансформация демократии: Хабермас о политике и дискурсивной рациональности
Отказ Хабермаса от объяснительного холизма первого поколения Франкфуртской школы несет в себе как объяснительные, так и нормативные импликации.
Таким образом, вновь приобретают актуальность демократические возможности, поскольку демократия имеет смысл только в рамках конкретных форм интеракции и ассоциации, от публичного форума до различных политических институций. Действительно, в свой первой работе, выдержавшей, пожалуй, наибольшее количество переизданий – «Структурная трансформация публичной сферы» (Habermas 1989/1961) – Хабермас прослеживает историческое появление новых форм публичной интеракции – от личной сферы семьи до кофеен, салонов и, наконец, парламентских дебатов. Хотя в конечном итоге это историческое описание повествует об упадке форм публичного взаимодействия под влиянием рынка и административной структуры государства, ядро такой интеракции, а также критический и эгалитарный потенциал, возникающий для участников общества, члены которого обращаются друг к другу на равных, выходили для Хабермаса за пределы идеологии, представляя собой, можно сказать, «утопический» смысловой центр (Habermas 1989, р. 88).
В самом деле, позитивная концепция социальной сложности позволяет проанализировать, каким образом современные общества и их функциональная дифференциация раскрывают демократические формы самоорганизации независимо от некой возможной экспрессивно интегрированной тотальности. Такой идеал экспрессивной тотальности и сознательного самоконтроля над производством условий общественной жизни заменяется публичностью и взаимным признанием в рамках возможных дискурсивных институций.
Например, Хабермас в своей работе Кризис легитимации (1969) утверждает не только то, что требования развитого капитализма ограничивают масштабы и значение демократии, но также и то, что государство «находится в кризисе» и не способно решать структурные проблемы безработицы, экономического роста и разрушения окружающей среды. Эти кризисные тенденции открывают гражданам пространство для дебатов и совещаний, а также способствуют их вовлечению в новые общественные движения. Такая критика в адрес современного государства рассматривается в контексте более широкого понимания отношений между демократией и рациональностью. В противовес «формальной» демократии, понимаемой как «правило большинства», Хабермас выдвигает «материальную демократию», которая подчеркивает «[подлинное] участие граждан государства в процессах политического волеобразования» (Хабермас 2010: 63). Релевантное понятие рациональности, которое может быть применено к такому процессу, является процедурным и дискурсивным; оно разработано с точки зрения процедурных свойств коммуникации, необходимых для того, чтобы сделать публичное формирование воли рациональным и, таким образом, способствовать тому, чтобы оно исходило из подлинного, а не лишь фактического консенсуса.
Как «коммуникация о коммуникации» дискурс возникает в таких проблемных ситуациях, когда необходимо найти новые решения для продолжения социального взаимодействия. Демократические институции имеют надлежащую рефлексивную структуру и поэтому являются дискурсивными в данном смысле. Участвуя в них, граждане являются свободными и равноправными личностями, для которых законность решения связана с достижением «рационального консенсуса». А именно, консенсус является рациональным в той степени, в какой норма, лежащая в его основании, может при некоторых идеальных условиях быть признана справедливой для всех, кто так или иначе заинтересован в данном решении. В своих ранних работах Хабермас называл полный список этих не зависящих от факта условий «идеальной речевой ситуацией», хотя позже станет ясно, что под этим имелось в виду обеспечение принципиальной основы для оценки качества соглашений, достигнутых дискурсивно.
Одна из философских целей такой процедурной концепции рациональности – опровергнуть тех, кто, скептически рассматривая ценности, сводит политику к тому, что Вебер назвал «борьбой между богами и демонами» (Weber, 1949). В социальной теории ее цель состоит в том, чтобы обеспечить основу для объяснения культурной рационализации и обучения в современном мире. Что касается нормативной теории в узком смысле, Хабермас с самого начала подозрительно относился к попыткам применять этот фундаментальный эпистемологический критерий рациональности непосредственно к структуре политических институций. Еще в работе Теория и Практика (1966) он дистанцировался от утверждения Руссо о том, что общая воля может быть достигнута только посредством прямой республиканской формы демократии. Не понимая, что идеальное согласие общественного договора устанавливает только определенный процедурный и рефлексивный уровень осуществления справедливости, Руссо не смог разграничить «введение нового принципа законности и планы по институционализации справедливого правления» (Habermas 1979, р. 186).
Вместо этого при реализации таких норм необходимо учитывать различные социальные факты, в том числе факты плюрализма и социальной сложности (Habermas 1996: 474). Для Хабермаса ни одна нормативная концепция демократии или права не может быть разработана независимо от дескриптивно адекватной модели современного общества, иначе эта концепция демократии может превратиться в простое долженствование. Без этого эмпирического и дескриптивного компонента демократические нормы становятся просто пустыми идеалами, а не реконструкцией рациональности, присущей реальной практике. Я вернусь к проблематичному отношению социальных фактов к демократическим идеалам в следующем разделе, когда буду обсуждать характерное для Хабермаса понимание философии критической социальной науки.
Другой способ, которым можно придать смысл демократической законности, заключается в том, чтобы различать отдельные способы использования практического разума в разнообразных формах дискурса. В противоположность оценке легитимности, предлагаемой в Кризисе легитимности, Хабермас позднее недвусмысленно отказывается от аналогии между обоснованием моральных норм и принятием демократических решений. Моральные дискурсы четко ограничиваются вопросами справедливости, которые могут быть беспристрастно урегулированы с помощью процедуры универсализации (Хабермас 2001: 90). Моральная точка зрения абстрагируется от индивидуальных особенностей конкретных личностей, а также от их политической идентичности, и обращается к некоторой аудитории всего человечества, являющейся универсальной в идеальном смысле. Хотя политика и законодательство включают в свою сферу моральные вопросы, такие как основные права человека, в этих практиках масштабы, в которых происходит оценка чего-либо как справедливого, могут быть ограничены конкретным сообществом взаимодействующих граждан, что позволяет, таким образом, апеллировать к культурно-специфическим ценностям, разделяемым этими участниками.
Из-за этого разнообразия демократические дискурсы часто бывают смешанными и сложными, включая в себя различные формы асимметрии знания и информации. Демократическая дискуссия, таким образом, является не частным случаем морального суждения со всеми его идеализирующими предпосылками, а сложной дискурсивной сетью с различными видами аргументации, переговоров и компромиссов (Habermas 1996: 286). То, что регулирует их использование, представляет собой некоторый принцип, существующий на ином уровне: публичное использование практического разума автореферентно и рекурсивно при исследовании условий его собственного применения. Принимая во внимание социальные обстоятельства, характерные для масштабных и плюралистических современных обществ, особой чертой демократического обсуждения будет необходимость в «посредничестве закона», так что закон должен выражать результаты демократических обсуждений.
Хабермас считает, что релевантные различия, существующие между тем, как применяется практический разум в морали и политике, заключаются в том, что они представляют собой варианты одного и того же принципа дискурсивного оправдания, который он называет «D». D просто обозначает дискурсивную процедуру: «обоснованными являются лишь такие нормы деятельности, с которыми могли бы согласиться все те, кого это касается как участников рационального дискурса» (Habermas 1996: 107). Другой моральный принцип – а именно, «U» – определяет, что правилом аргументации для морального дискурса является возможность универсализации (Хабермас 2001: 90). Более специфический принцип демократии заключается в том, что «только те законы способны претендовать на легитимность, которые могут встретить согласие всех граждан в рамках дискурсивной процедуры создания законов, которая сама по себе является юридически установленной (Habermas 1996: 110). Хабермас считает, что такой принцип находится на ином уровне, нежели моральный принцип, поскольку его целью является прежде всего установление дискурсивной процедуры легитимного законотворчества, а это представляет собой гораздо более слабый стандарт согласия.
Тем не менее, даже этот демократический принцип все еще может быть слишком требовательным, поскольку он нуждается (принципиально, а не фактически) в согласии всех граждан в качестве критерия легитимности. Хабермас признает, что когда речь идет о культурных ценностях, нам не нужно ожидать достижения такого соглашения; он даже вводит компромисс в качестве возможного дискурсивного результата демократических процедур.
Таким образом, важно не согласие как таковое, а то, как граждане совместно обсуждают проблемы в единой публичной сфере. Демократический принцип в этой форме выражает скорее идеал гражданства, чем стандарт либеральной легитимности.
Как пишет Хабермас, «неизбежная социальная сложность делает необходимым применение критериев демократии дифференцированным способом» (Habermas 1996: 486). Такая сложность в силу ряда причин ограничивает полную реализацию демократической справедливости. Во-первых, суверенная воля народа, выраженная посредством его демократических полномочий принимать решения, не может представлять общество в его целостности; а во-вторых, общество, сформированное только на основе связующих коммуникативных средств координации и сотрудничества, более не является возможным. Данное возражение против радикальной демократии, таким образом, имеет в виду те теории, которые не проясняют, каким образом демократические принципы могут быть институционально опосредованы с учетом текущих социальных фактов. В действительности институциональное посредничество может преодолеть недостатки коммуникативной самоорганизации, поскольку они компенсируют «когнитивную неопределенность, мотивационную незащищенность, а также сдерживающую и координирующую силу моральных норм и таких неформальных норм, в соответствии с которыми осуществляется деятельность в целом» (Habermas 1996: 323).
неясно, в чем конкретно состоит разница между радикальной и либеральной демократией, поскольку некоторые из препятствий для соучастия проистекают из ограничений, вызванных социальными фактами, а не из-за асимметрии власти. Настаивая на том, что народный суверенитет является результатом генерации «коммуникативной власти» в публичной сфере, Хабермас пытается спасти сущность радикальной демократии.
Другими словами, представители общественности не контролируют социальные процессы, хотя как представители общества они могут оказывать влияние посредством определенных институционализированных механизмов и каналов коммуникации.
Даже если учесть ограничения, происходящие из социальной сложности, все еще остается пространство для суждений о большей или меньшей демократии, особенно в отношении демократической ценности свободы от доминирования. Например, критическая теория глобализации может показать, что демократический потенциал современных обществ подрывается неолиберальной глобализацией и денационализацией экономической политики. Такая теория видит здесь решение в том, чтобы достигнуть большей демократии на международном уровне. Также возможно, что критическое использование демократических концепций может потребовать переосмысления демократической теории, которая в наибольшей мере послужила источником критики Просвещения в европейских обществах.
В любом случае, радикальная демократия, возможно, больше не может быть единственным средством социальной трансформации, и, разумеется, мы вместе с Маркузе можем думать, что сохранять истины прошлого, такие как демократические конституционные достижения, настолько же важно, как и представлять себе возможности нового будущего. Учитывая эту новую ситуацию, Критическая теория может вернуться к эмпирическим социальным исследованиям, чтобы открыть новые возможности для улучшения демократии, особенно в понимании того, как она может увеличить масштабы и эффективность публичного обсуждения. В этих разнообразных ролях сторонники критической теории являются участниками демократической публичной сферы.
Для этого потребуется другое, возможно, более рефлексивное понятие критического социального исследования, в котором демократия выступает не только объектом изучения, но и сама понимается как форма социального исследования.
В следующих двух разделах я расскажу о двух аспектах этой трансформированной концепции Критической теории. Во-первых, я обращусь к той роли, которую играет социальная теория в этом более прагматичном понимании критического социального исследования. Несмотря на то, что такие исследования имеют своим истоком марксистский теоретический реализм, я утверждаю, что методологический и теоретический плюрализм является лучшей формой практической социальной науки, направленной на эмансипацию человека. Во-вторых, я проиллюстрирую эту концепцию, дав очерк критической теории глобализации, цели которой – еще большая демократия и отсутствие доминирования. Эта теория также имеет нормативный аспект, который представляет собой исследование демократии как таковой, когда она выходит за привычные социальные рамки национального государства. В этом смысле она пытается не только показать ограничения, но и раскрыть возможности. Критические теоретики не сумели не только принять вызов таких новых социальных обстоятельств, но и переформулировать демократические идеалы новыми способами. Для начала я коснусь понимания философии социальных наук, которое поможет в этом переосмыслении критической теории – как критического социального исследования и как практического и нормативного предприятия.
Критическая теория, прагматическая эпистемология и общественные науки
Как и в случае с прагматизмом, критическая теория постепенно стала отвергать требование научного или объективного базиса для критики, основанной на высокой теории (прим. ред. – понятие, предложенное социологом Ч. Р. Миллсом). Это требование оказалось трудно совместить с требованиями социальной критики, направленными на конкретную аудиторию в конкретный период, с ее собственными особыми требованиями и потребностями в свободе или эмансипации. Первым шагом было перевести критического социолога-ученого от поиска какой-то одной объединяющей теории к использованию множества теорий в различных исторических ситуациях. Здесь лучше начать с собственных предтеоретических знаний агента и самопонимания.
Второй шаг состоит в том, чтобы показать, что такая практическая альтернатива не только обеспечивает базу для надежной социальной критики, но что она лучше учитывает и использует плюрализм, свойственный различным методам и теориям социального исследования (social inquiry).
Хотя далеко не очевидно, что все сторонники критической теории понимают друг друга таким образом, большинство согласно с тем, что только практическая форма критического исследования может справиться с эпистемологическими и нормативными вызовами социальной критики и, таким образом, обеспечить адекватную философскую базу для достижения целей критической теории.
Критики, наблюдатели и участники: две формы Критической теории
Более пристальное изучение парадигматических работ по всей традиции, от Капитала Маркса (1871) до сборника научных отчетов Исследования Авторитета и Семьи (Studien über Autorität und Familie, 1939) представителей Франкфуртской школы и теории коммуникативного действия Хабермаса (1982), не раскрывает ни особой формы объяснения, ни специальной методологии, которая обеспечивает необходимые и достаточные условия для такого исследования. Скорее, лучшие из таких работ используют разнообразные методы и стили объяснения и часто междисциплинарны в своем способе исследования. Что же тогда дает им общую ориентацию и позволяет их отнести к критической социологии?
Существует два общих ответа на вопрос о том, что определяет отличительные черты критического социального исследования: один практический, а другой теоретический. Второй ответ заявляет, что критическому социальному исследованию надлежит использовать особую теорию, которая объединяет различающиеся подходы и объяснения. С этой точки зрения
Первое поколение представителей Франкфуртской Школы тщетно искало такую теоретическую базу, пока не отбросило претензии к социальным наукам, бывшие центральными в их программе конца 1940-х годов (Wiggershaus, 1994).
Но утверждать, что критическую социальную науку лучше объединять практически и политически, нежели теоретически или эпистемически, вовсе не означает сводить ее просто к демократической политике. Это скорее метод исследования, который участники могут использовать в своих социальных отношениях с окружающими. Последний подход был разработан Хабермасом и ныне стал излюбленным для сторонников Критической теории.
Прежде чем перейти к подобной практической интерпретации критического социального исследования, сначала необходимо обсудить, почему сторонники Критической теории столь долгое время предпочитали теоретический подход.
Во-первых, давно считалось, что только всеобъемлющая социальная теория может объединить критическую социальную науку и таким образом обеспечить «научную» основу для критики, которая выходит за рамки непрофессиональных знаний. Во-вторых, эпистемологическая основа критики должна быть не только независимой от практических знаний ее агентов, но также требует, чтобы корректность любого объяснения была независимой от его желательных или нежелательных политических эффектов для конкретной аудитории.
Начиная с исторического материализма Маркса крупномасштабные макросоциологические и исторические теории долгое время считались наиболее подходящей объяснительной основой для критической социальной науки. Однако есть одна проблема: всеохватывающая комплексность не обеспечивает объяснительную силу. Действительно, существует множество подобных крупномасштабных теорий, каждая со своими отличиями и социальными примерами, которые ведут к попытке унификации. Вторая проблема заключается в том, что тщательное изучение стандартных критических объяснений, таких как теория идеологии, показывает, что они обычно апеллируют ко множеству различных социальных теорий (Bohman, 1999b). Фактическое использование Хабермасом критических объяснений подтверждает это. Его критика современных обществ включает в себя объяснение взаимоотношений двух совершенно разных теоретических положений: микротеории рациональности, основанной на коммуникативной координации, и макротеории системной интеграции современных обществ в такие механизмы как рынок (Habermas, 1987).
Только с такой целью имеет смысл осуществлять на заднем плане двухступенчатый процесс использования исторического материализма для установления эпистемически и нормативно независимой позиции. Валидность социальной критики зависит не только от того, будет ли она принята или отвергнута теми, кому она адресована.
Несмотря на свою амбивалентность в отношении к теоретическому и практическому плюрализму, Хабермас дал веские основания принять практический и плюралистический подход. Как и при анализе способов исследования, связанных с различающимися основополагающими интересами, Хабермас признает, что каждая из различных теорий и методов имеет «относительную легитимность». Фактически он, как и Дьюи, заходит так далеко, что утверждает, что логика социального объяснения является плюралистической, но игнорирует «аппарат общих теорий».
При отсутствии каких-либо общих теорий самый плодотворный подход к общественно-научному знанию – это преподнести все различные методы в их отношениях друг с другом:
В Теории коммуникативного действия Хабермас излагает критическую социальную теорию аналогичным плюралистическим, но унифицирующим путем. Например, при обсуждении различных версий модернизации общества Хабермас утверждает, что основные существующие теории имеют собственную «частную легитимность» как развитые направления эмпирических исследований, и что критическая теория берет на себя задачу критической унификации различных теорий и их разнородных методов и предпосылок. «Критическая теория не относится к устоявшимся направлениям исследований как конкурент; скорее, исходя из ее концепции возникновения современных обществ, она пытается объяснить конкретные ограничения и относительные права этих подходов» (Habermas, 1987: 375).
Это напряжение между единством и множественностью ведет в двух разных направлениях – практическом и теоретическом.
То, что можно назвать «кантианским» подходом, происходит от случая к случаю при наблюдении того, как теории наталкиваются на ограничения, пытаясь выйти за пределы основных феноменов своей сферы валидности (Bohman, 1991, ch. 2). Этот подход не теоретический по своей ориентации и больше похож (если пользоваться терминоологией Хабермаса) на социальную науку “с практической действенностью” (Хабермас, 2013). «Кантианский» ответ наиболее четко сформулирован Максом Вебером в его философии социальных наук. Признавая смешанную природу социальной науки как каузальную и интерпретативную, он искал объяснения конкретных явлений, которые объединяли бы оба измерения. Например, в работе Протестантская этика и дух капитализма Вебер объединил макроанализ институциональных структур с микроанализом экономической рациональности и религиозных убеждений (Вебер 2003). В соответствии с этим контрастным подходом «относительные права и конкретные ограничения» каждой теории и метода признаются путем присвоения им их собственной конкретной (и, следовательно, ограниченной) эмпирической области, а не установлением суждений о сфере охвата и деятельности посредством более обобщенной теории, которая включает в себя все прочее.
Второй подход может быть назван «гегельянским». Здесь теоретики стремятся объединить социологические знания в широкие комплексные теории, которые создают общую историю современных социумов. Но общие теории предоставляют «общие интерпретативные рамки», на которых возможно выстраивать «критические истории современности» (McCarthy, in: Hoy and McCarthy, 1994: 229–230). Даже эта версия всеобъемлющей теории едва ли устраняет конкурирующие истории, объединяющие различные теории и методы. Вместо того, чтобы нацеливаться на единую лучшую историю, «гегельянские» теории такого рода расцениваются как практическое «рекламное предложение», где «товаром» для критика является всеобъемлющее объяснение текущей ситуации. Они не опираются на критерии теории рациональности, часто используемые в кантианском подходе, но все же, видимо, оправдывают определенные моральные требования, такие как требования относительно справедливости и несправедливости.
Хабермас хочет преодолеть разрыв между кантианским и гегельянским подходами в своей социальной теории современности. Почему бы не рассматривать теорию рациональности Хабермаса как обеспечивающую сразу и теоретическую, и практическую базу для Критической теории? Конечно, именно так видит Хабермас цель такой теории (Habermas, 1984, ch. 1).
По этой причине Рорти обособляет их:
Подобно недавним аргументам Патнема, Хабермас теперь более четко проводит различие между претензиями на истину и контекстом обоснования, в котором они сделаны, даже когда он хочет опровергнуть моральный реализм.
Проблема практической концепции критических социальных исследований заключается в том, чтобы избежать острой развилки дилеммы: она не должна быть ни чисто эпистемической и, следовательно, чрезмерно когнитивистской, ни чисто моралистической. Ни то, ни другое не обеспечивает адекватного «товара для критика». С позиции стороннего наблюдателя расстояние слишком велико, так что трудно понять, как теория может мотивировать критику; а с точки зрения «чистопробного» участника дистанция слишком мала, чтобы мотивировать или обосновывать какую-либо критику вообще.
Первый подход рассматривает такие термины как рациональность в качестве эксплананса, объясняющего такие феномены как норма. Второй подход утверждает, что нормативные термины не настолько «редуцибельны», приводимы, и, следовательно, не могут фигурировать как в экспланансе (объяснении явлений), так и в экспланандуме (описании явлений). Наилучшая практическая версия здесь примиряет двусмысленность Рорти, помещая эпистемологический компонент в социальный мир, в наши разнообразные когнитивные воззрения на него, которые включают в себя нормативные воззрения окружающих. Двусмысленность здесь является практической проблемой принятия различных точек зрения, как нечто такое, что рефлексивные участники самокритичной практики обязаны уметь осуществлять уже в силу своей компетентности.
Социальные исследования как практическое знание
Переключение на «принятие перспектив» (perspective taking) уже подразумевается в рефлексивности практических форм Критической теории.
Такие взаимоотношения могут быть определены эпистемически в терминах принятия перспективыы исследователя, из которой он смотрит на тех действующих лиц, которые фигурируют в своих объяснениях или интерпретациях. При таком рассмотрении два доминирующих и противоположных подхода к социальным наукам принимают во внимание совершенно разные углы зрения. С одной стороны, натурализм отдает приоритет третьей стороне или объяснительному воззрению; с другой стороны, антиредукционизм интерпретирующих социальных наук доказывает приоритетность понимания от первого и второго лица и, следовательно, наличие эссенциального методологического дуализма. Со времен Хоркхаймера Критическая теория постоянно пытается предложить альтернативу обоим взглядам.
Хабермас и другие представители Критической теории справедливо называют «технократическим» любое социальное изыскание, которое разрабатывает оптимальные стратегии решения проблем исключительно в свете знания от третьего лица о безличных последствиях всех имеющихся направлений действия. Подобную критику предлагали прагматики от Джорджа Мида (George H. Mead) до Джона Дьюи (Хабермас 2013, Habermas 1973; Дьюи 2002). Эта концепция практического знания могла бы сформировать роль социолога в политике по образцу инженера, который мастерски выбирает оптимальное решение проблемы проектирования. Для социолога, который в идеале является рациональным и хорошо информированным участником действия, «диапазон допустимых решений четко разграничен, релевантные вероятности и полезности точно определены, и даже четко установлены критерии рациональности (как, например, максимализация ожидаемой полезности), которые следует применять» (Гемпель 1998, с.32-89). Эта технократическая модель социолога как независимого наблюдателя (а не рефлексивного участника) всегда должна быть контекстуализирована в социальных отношениях, которые она конституирует как социально распределенную форму практического знания.
Интерпретации как практическое знание не основаны на какой-то общей теории (какими бы полезными или объяснительными они ни были, когда объяснение затруднено), но реконструируют собственные мотивы агента или, по крайней мере, как эти мотивы могут казаться хорошими с точки зрения первого лица. Это оставляет интерпретатора в своеобразном эпистемическом затруднении: то, что затевалось для того, чтобы видеть вещи с точек зрения иных участников, может в лучшем случае обеспечить нам истолкование того, каковы эти вещи для них самих. Что касается ответственности за истолкование, нельзя обойти стороной тот факт, что этнография или история – это наша попытка «увидеть другую форму жизни в наших собственных категориях» (Гирц 2004: 25–26; Bohman, 1991: 132). Единственный выход из этой проблемы – увидеть, что существует более одной формы практического знания.
Натуралистический и герменевтический подходы рассматривают взаимоотношения субъекта и объекта исследования как принуждающие социолога принимать перспективу от третьего или от первого лица. Тем не менее, критическая социальная наука обязательно требует комплексного принятия перспектив и координации различных точек зрения, причем в минимальной степени – тех, что присущи социологам, изучающим данную тему. Перспектива от второго лица отличается как от стороннего наблюдателя в третьем лице, так и от перспективы участника от первого лица в его конкретной форме практического знания. В диалоге или коммуникации она эксплуатирует ноу-хау участника (Bohman, 2000). Такая перспектива предоставляет альтернативу своим противоположностям, особенно когда наши знания от первого лица или теории от третьего лица оказываются недействительными. Встречаясь с необходимостью интерпретировать поведение других, мы быстро натыкаемся на пределы безусловности знания от первого лица. Объяснения от третьего лица сталкиваются с такой же «проблемой герримандеринга» (gerrymandering – манипулирование границами ради фальсификации – прим. пер.), что было выявлено в витгенштейновском «аргументе индивидуального языка» (Brandom 1994, 28ff).
Для социологов, а также для участников практики в целом процедура урегулирования таких конфликтов требует взаимного принятия перспектив, что является ее собственным способом практической аргументации.
Множество теорий различного рода определяют интерпретацию как практику, то есть акты и процессы непрерывного общения. С этой перспективы общение рассматривается как проявление особой формы практической рациональности.
Например, для Хабермаса рациональность заключается не столько в обладании определенными знаниями, сколько в том, «как говорящие и действующие субъекты приобретают и используют знания» (Habermas, 1984: 11). Любая такая версия является «прагматичной», поскольку она разделяет с другими взглядами ряд отличительных черт, которые рассматривают толкователей как компетентных и хорошо осведомленных агентов. Что наиболее важно, прагматический подход развивает вариант практических знаний в «перформативном отношении», с точки зрения компетентного докладчика.
Эта реконструкция имеет важное значение для понимания обязательств рефлексивных участников, в том числе критика.
Есть два основных аргумента в пользу теории, которая предполагает несводимость (irreducibility) такой перспективы. Во-первых, интерпретация – это не просто описание чего-либо.
Скорее, она устанавливает обязательства и права между интерпретатором и интерпретируемым.
Во-вторых, при этом интерпретатор принимает конкретные нормативные установки. Эти «нормативные установки» должны быть таковыми и для интерпретируемого. При толковании человек не просто информирует, а скорее выражает и формирует свое отношение к высказыванию, как, например, когда интерпретатор воспринимает интерпретируемое как нечто способное быть истиной или осуществлять действия в соответствии с социальными нормами. Некоторые из такие установок по сути являются отношениями друг к другу двух лиц: интерпретатор не просто выражает личную установку от первого лица, но скорее принимает на себя заинтересованность или обязательства перед другими, интерпретируя то, что делают другие (Brandom, 1994: 79).
Критическая установка разделяет с интерпретирующей позицией структуру, выведенную из перспективы от второго лица. В этом случае убеждения, установки и практики агента не только могут быть интерпретированы как значимые (или незначимые), но также должны оцениваться как корректные, некорректные или неубедительные. Тем не менее, перспектива от второго лица еще не достаточна для критики. Чтобы сам акт критики был оценен как корректный или некорректный, он часто должен прибегать к проверкам с точки зрения первого и третьего лица. Размышляющий участник должен занять все позиции; он не предполагает единой нормативной установки, подходящей для всех критических исследований. Только такая «межперспективная» позиция полностью диалогична, что обеспечивает равный статус исследователя и агента.
Если действительно вся совместная социальная деятельность «вовлекает момент исследования» (Putnam, 1994: 174), тогда они также нуждаются в моменте саморефлексии о предпосылках самого исследования. Именно этот тип рефлексии требует особой практической формы критического принятия перспектив. Если критическое социальное исследование является изысканием в фундаменте практического сотрудничества как такового, это делает практическое исследование дальнейшим рефлексивным шагом. Здесь исследователь выполняет этот шаг не в одиночку, а скорее с публикой, к которой обращается. Как и в разграничении Томаса Куна между нормальной и революционной наукой, критическая рефлексия второго порядка рассматривает вопрос о том, нужно ли менять рамки самого сотрудничества, и, следовательно, нужны ли для решения проблем новые условия кооперации.
Различные перспективы для исследований уместно применять в разных ситуациях, требующих критики. Если это необходимо для выявления всех проблем, связанных с совместной практикой исследования, мы обязаны уделять время и учитывать разнообразные перспектиыв. Только тогда будет включена публичная рефлексия среди свободных и равных участников. Такие проблемы возникали, например, в практике исследований, связанных с лечением СПИДа. Продолжающееся распространение эпидемии и отсутствие эффективных методов лечения привели к кризису в авторитете экспертов, к «экзистенциально-проблемной ситуации» в терминах Дьюи (Dewey 1938: 492). Оценивая экспертную деятельность через ее социальные последствия и делая условия социальной кооперации между исследователями и пациентами открытыми, непрофессиональные участники изменяют практику получения медицинских знаний и авторитета (Epstein 1996, Part II). Аффектированная публика изменила в этой области нормативные условия кооперации и исследования, чтобы институции могли заниматься приемлемым решением первоочередных проблем. Если экспертиза должна быть поставлена под демократический контроль, рефлективное исследование научной практики и ее действующих норм просто необходимо (Bohman 1999a). Этот публичный вызов нормам, на которых основаны экспертные полномочия, может быть распространен на все формы исследований в области совместной деятельности. Он предлагает преобразовать некоторые эпистемологические проблемы социальных наук в практический вопрос о том, как сделать их формы ангализа и исследований открытыми для публичного тестирования и отчетности перед общественностью. Это требование также означает, что необходим определенный вид «практической верификации» критического социального исследования.
Плюрализм и критические исследования
Практический подход к критической теории отвечает на плюрализм в социальных науках двумя способами, в очередной раз охватывая и примиряя обе стороны традиционной оппозиции между эпистемическим (объяснительным) и не-эпистемическим (интерпретирующим) подходами к нормативным утверждениям. С одной стороны, он подтверждает необходимость общих теорий, в то же время ослабляя сильные эпистемические требования, предъявляемые к ним в страхующей критике (underwriting criticism). С другой стороны, он помещает критического исследователя в прагматическую ситуацию коммуникации, рассматривая критика, который решительно заявляет об истинности или справедливости своего критического анализа. Это пресуппозиция дискурса критика, без которой не имело бы смысла заниматься критикой других.
Вообще теории лучше рассматривать как интерпретации, которые валидизируются тем, в какой степени они открывают новые возможности действия, которые сами должны быть проверены в демократическом исследовании, нежели назначать им обосновывающую роль в критике за свою трансперспективную всеохватность. Кроме того, каждая теория сама сформулирована в рамках определенных перспективных взглядов. Поэтому общие теории лучше всего рассматривать как практические предложения, у которых «товар для критика» – это не моральная и эпистемическая независимость, а практическая и общественная проверка в соответствии с критериями интерпретативной адекватности.
Почему это практическое измерение имеет решающее значение для демократизации научного авторитета? Существует, как нам представляется, неопределенное количество перспектив, из которых можно формулировать общую историю настоящего. Даже простая идентификация количества различных методов и теорий, связанных с разнообразными целями и интересами, ставит социолога в довольно безнадежную эпистемологическую дилемму. Либо выбор между теориями, методами и интересами кажется совершенно произвольным, либо у сторонника Критическй теории есть некие особые эпистемические требования к исследованию данной области и совершению верного выбора согласно правильным мотивам. Эта скептическая развилка дилеммы взята на вооружение такими «новыми прагматиками» как Ричард Рорти (Rorty 1991) и Макс Вебер (1949), которые рассматривают все эти знания как релятивистские, зависимые от цели. Как утверждал Вебер, вероятно, «гегельянская развилка» требует объективистских притязаний на социологию в целом и на эпистемическое превосходство сторонника Критической теории в частности, что Хабермас и другие Критические теоретики изо всех сил пытались отвергнуть (Weber 1949; Хабермас 2010).
Выход из этой дилеммы уже обозначен рефлексивным акцентом на социальный контекст критического исследования и на практический характер социальных знаний, которые он использует. Он обращается к субъектам исследования как к равноправным участникам и осведомленным социальным агентам.
Будучи сами агентами в социальном мире, социологи участвуют в создании контекстов, в которых их теории публично проверяются. И цель критического исследования состоит не в том, чтобы контролировать социальные процессы или даже влиять на решения, которые агенты могут принимать каким-либо определенным образом. Вместо этого, его цель состоит в том, чтобы инициировать публичные процессы саморефлексии (Habermas, 1971: 40-41). Такой процесс обдуманного обсуждения не гарантирует успеха в силу какой-то всеобъемлющей теории. Скорее, критик стремится продвигать только те условия демократии, которые делают ее наилучшим из имеющихся процессов при адекватной рефлексии всех, кого они затрагивают. Это позволит включить сюда рефлексию демократического процесса как такового. Когда критик понимается как участник, исключительно зависимый от превосходства теоретического знания, он не имеет опоры в социальном мире и способа выбирать между многими конкурирующими подходами и методами.
Здесь необходимо разработать версию стандартов с точки зрения тех способностей и компетенций, которые демонстрируют в своей критике успешные исследователи. Это лишний раз раскрывает измерение плюрализма в социальных науках: плюрализм социальных перспектив. Адресуясь к другим членам общества в качестве спикера как рефлексивного участника на практике, критика, безусловно, приводит к способности принимать во внимание нормативные установки множественных прагматических перспектив в коммуникации, в которой закреплены акты критики.
Рефлексивность, принятие точек зрений и практическая верификация
Если аргумент последнего раздела верен, прагматическая версия неизбежно методологически, теоретически и перспективно плюралистична.
Не существует специфических или определенных социологических методов критики или теорий, которые однозначно обосновывают критическую точку зрения. Одна из причин этого заключается в том, что не существует уникальной критической точки зрения, да и не должно быть таковой для рефлексивной теории, которая обеспечивает социологический вариант актов социальной критики и их условий прагматического успеха.
Стандартные идеи идеологической критики демонстрируют те проблемы с моделью критики исключительно из перспективы третьего лица, которые зависят от определенной идеи теоретиков, способных распознать «реальные интересы» участников (Geuss 1981). Вместо того, чтобы заявлять об объективности в трансперспективном смысле, большинство практически ориентированных представителей Критической теории всегда настаивали на том, что их форма социальных изысканий принимает «двойную перспективу» (Habermas, 1996, ch. 1; Bohman, 1991, ch. 4). Эта двойная перспектива была выражена разными способами. Представители Критической теории всегда настаивали на том, что критические подходы имеют двойные методы и цели: они являются одновременно и объяснительными, и нормативными, адекватными как в виде эмпирических описаний социального контекста, так и в качестве практических предложений для социальных изменений. Эта двойная перспектива последовательно поддерживается представителями Критической теории в их дебатах о социологическом знании, будь то диспут о позитивизме, универсальная герменевтика или микро- и макросоциологические разъяснения.
В споре о позитивистской социологии представители Критической теории отвергли все формы редукционизма и настаивали на объяснительной роли практического разума. А в диспутах об интерпретации они настояли на том, чтобы социальные науки не делали принудительного выбора между объяснением и пониманием. Даже если социологи могут получить эпистемический доступ к социальной реальности посредством интерпретации, они не могут просто повторить то, что агенты знают практически в своем «объяснительном понимании». Здесь мы могли бы подумать об объяснениях, которые создают микро- и макросвязи, как о между интенциональными действиями, осуществляемыми акторами для их собственных целей и эффектов, непредусмотренными в силу различного рода взаимозависимостей.
Учитывая богатое разнообразие возможных объяснений и позиций, современная социология разработала множество возможных способов улучшить критическое принятие точек зрения.
Это достигается различными комбинациями доступных объяснений и интерпретирующих позиций. Что касается разнообразных социальных явлений на многих уровнях, критическое социальное исследование использует различные объяснения и объяснительные стратегии. Так, историческая социальная теория Маркса позволила ему увязать функциональные объяснения нестабильности жадного до прибыли капитализма с опытом рабочих от первого лица. А феминистские и этнометодологические исследования истории науки смогли в подробном историческом анализе показать непредвиденность нормативных практик (Epstein 1996; Longino 1990). Они также утвердили различные интерпретативные позиции. Феминистки показали, как презумптивно нейтральные или беспристрастные нормы имеют встроенные предубеждения, которые ограничивают их предположительно универсальный характер в отношении расы, пола и инвалидности (Mills 1997; Minnow 1990, Young 2002). Во всех этих случаях претензии на научную объективность или моральный нейтралитет обнажаются при демонстрации того, как они проваливают экзамен публичной верификации, показывая, что контуры их опыта не соответствуют самопониманию институциональных норм правосудия (Mills 1997; Mansbridge 1991). Такая критика требует одновременного объединения как чьего-то собственного опыта, так и нормативного самопонимания конкретной традиции или института – вместе и одновременно, чтобы выявить предвзятость или когнитивный диссонанс. Она использует выражения живого опыта от первого лица, чтобы вызвать кросс-перспективное понимание у акторов, которые иначе не могли бы видеть пределы своей познавательной и коммуникативной деятельности.
Почему в этих случаях так важно перекрещивать перспективы? Здесь взгляд от второго лица имеет особый и саморефлексивный статус для критики. Рассмотрим акт пересечения перспектив – от множественной «мы-перспективы» к перспективе от второго лица – в двух рефлексивных практиках: науке и демократии. В случае науки сообщество экспертов действует в соответствии с нормой объективности, цель которой состоит в том, чтобы направлять научное исследование и обосновывать его притязания на общечеловеческий эпистемический авторитет. Предубеждения, присущие этим действующим нормам, были разоблачены в различных критических научных исследованиях, а также многими социальными движениями. Для Хелен Лонгино такая критика предполагает необходимость лучшей нормы объективности, «измеряемой по сравнению с когнитивными потребностями подлинно демократического сообщества» (Longino 1990: 236). Эта связь может быть совершенно прямой, поскольку когда эмпирические исследования показывают, что существующие формы участия тесно скоррелированы с высоким статусом и доходом, граждане с низким доходом и статусом часто не желают участвовать в публичном форуме из-за страха публичного унижения (Verba et al. 1995; Mansbridge 1991; Kelly 2000). Принятие перспективы от второго лица – тех, кто не может здесь эффективно участвовать, – не просто разоблачает эгалитарные или меритократические претензии в отношении участия в политической жизни, но и также показывает, почему критическое исследование обязано искать новые форумы и способы общественного выражения (Young 2002; Bohman 1996).
Практическая альтернатива предлагает решение этой проблемы, беря на вооружение критическую социальную теорию в направлении прагматического переосмысления верификации критического исследования, которое превращает кажущиеся неразрешимыми эпистемические проблемы в проблемы практические.
Это практическое регулирование включает в себя управление нормами самой критической социальной науки. Здесь отношение теории к практике отличается от такового среди подлинных прагматиков, где эти социальные науки не просто разъясняют соотношение средств и целей для принятия решений по конкретным вопросам, а требуют анализа институционализированных практик и их норм сотрудничества. Рефлексивные практики не могут оставаться таковыми без критического социального исследования, а критическое социальное исследование может быть проверено только в таких практиках. Одним из возможных эпистемических улучшений является трансформация социальных отношений власти и полномочий в контекстах демократической ответственности среди всех политически равных участников (Bohman 1999a; Epstein 1996).
Должным образом реконструированное критическое социальное исследование является основой для лучшего понимания социальных наук как особых форм практического знания в современных обществах.
Нормативная критика, таким образом, не только основана на моральной и когнитивной дистанции, созданной связыванием и пересечением различных перспектив, но также имеет практическую цель. Она стремится расширить каждую нормативную перспективу в диалогической рефлексии и таким путем сделать людей более осведомленными об обстоятельствах, которые ограничивают их свободу и препятствуют полному публичному использованию их практических знаний. Одним из таких ярко выраженных обстоятельств является долгосрочный исторический процесс глобализации. Что представляет собой отчетливая критическая теория глобализации, нацеленная на такую форму практического знания? Как такая теория может способствовать желаниям и борьбе эпохи сегодня, когда такие проблемные ситуации носят транснациональный и даже глобальный характер? К каким нормативным стандартам могут обратиться критики, если не к тем, которые имманентны либерализму? Хотя в следующем разделе я, безусловно, буду говорить о сторонниках критической теории, я также попытаюсь провести критическое социальное исследование, которое сочетает в себе нормативные и эмпирические перспективы с целью реализации более широких и, возможно, новых форм демократии там, где их в настоящее время не существует.
4. Критическая теория глобализации: транснациональная критическая теория
Хотя привычные теории глобализации рассматривают обширный спектр макросоциологических процессов, ее социальная реализация не является единообразной; различные условия, в которых находятся акторы, приводят к тому, что различным оказывается и их опыт. Поэтому глобализация предоставляет репрезентативный материал для социологических исследований, ведущихся во множестве различных направлений. Она показательна также и в другом смысле.
Мы могли бы назвать эту практическую теорию действия «праксеологией» (Linklater 2001, 38). Хотя употребление термина «праксеология» может восходить к работе Людвига фон Мизеса или даже к более ранним трудам Альфреда Эспинаса, то, как использует этот термин Линклейтер, имеет своим истоком значение, которое он приобретает в работе Раймона Арона (Арон 2000). В этом смысле целью праксеологии становится исследование «принципов работы» практического нормативного знания, то есть знания о том, каким образом нормы непрерывно интерпретируются, реализуются и укрепляются в конкретных социальных и исторических обстоятельствах. Критическая и праксеологическая теория глобализации, следовательно, должна найти решение двух насущных внутренних проблем: во-первых, показать, каким образом можно более демократичным образом организовать исследования в рамках транснациональных институций и между ними; и, во-вторых, обнаружить значимые различия между национальными и транснациональными институциями и общественными сферами, так чтобы сделать демократическое влияние на глобализацию более реализуемой задачей с правдоподобными вариантами решения.
Современные теории глобализации главным образом являются макросоциологическими и сосредотачиваются в первую очередь на том, какие ограничения накладывает глобализация на демократические институции.
Чтобы реализовать такие возможности, эта теория должна сделаться более открытой практикой, реализующейся во множестве перспектив; она должна стать глобальной критической теорией. Именно в этом контексте мы можем обратить особое внимание на проблемы нормативной адекватности демократических идеалов, которые были унаследованы от современного либерализма. В действительности многие сторонники «космополитической» концепции демократии среди тех, кто занимается критической теорией, разделяют неожиданно стандартную идею того, каким образом демократия может быть лучше всего организована как дискурсивно, так и в своих принципах. По этой причине они не задаются вопросом, способны ли данные практики поддерживать достаточно мощные коллегиальные формы исследований в новых глобальных условиях политической взаимозависимости.
Социальные факты, нормативные идеалы и мультиперспективная теория
В каком смысле можно утверждать, что эта прагматическая и критическая социальная наука нового типа должна быть связана с фактами социальной действительности? Научная социальная праксеология осмысляет факты, с которыми имеет дело, соотнося их с человеческой деятельностью, а не в отрыве от нее. Прагматически ориентированные социальные исследования связаны не только с разработкой идеальных нормативных концепций, но также и с возможностью и осуществимостью этого идеала. Что касается демократического идеала, то среди некоторых социальных фактов, которые представляют собой проблему для его воплощения, могут быть названы компетенция и разделение труда, культурный плюрализм и конфликты, запутанная структура социальных отношений и их дифференциация, глобализация и возрастающая социальная взаимозависимость.
По этой причине социальные исследования имеют прагматический характер в той мере, в какой они способны показать, что те политические идеалы, которые формируют проблематичные институции, не только по-прежнему возможны, но и осуществимы в текущих обстоятельствах или в процессе трансформации этих обстоятельств. Как я уже говорил, тот идеал, к которому стремится прагматизм и вдохновленная им современная критическая социология, – это прозрачная форма самоуправления, основанная на совещательных принципах, что также является ключевым аспектом существующего для критической теории исторического идеала человеческой эмансипации и свободы в более широком смысле.
Осуществление идеала связано с множеством ограничений. С одной стороны, демократия предполагает наличие определенных добровольно принимаемых ограничений деятельности: к примеру, политическая власть ограничена существованием базовых прав и рамками конституции. С другой стороны, социальные обстоятельства представляют собой ограничения, не имеющие добровольного характера или, говоря в контексте нашей проблематики, ограничения, которыми обусловлены возможности применения демократических принципов. Если рассматривать социальные факты в контексте практической социальной теории, нацеленной на предложение действий, которые могли бы воплотить идеал демократии в современном обществе, то они перестают представлять собой лишь ограничения. Для Джона Ролза «факт плюрализма» (или разнообразие моральных доктрин, характерное для современных обществ) является именно такой стабильной чертой современного общества, которая напрямую связана с политической системой, потому что обстоятельства плюрализма, «глубинным образом соотносятся с теми моментами, которые должны быть присущи любой рабочей концепции справедливости» (Rawls 1999: 424).
Однако это еще не все. Социальные факты, такие как плюрализм, обретают «постоянство» только в той мере, в какой современные институции и идеалы, получившие развитие после Религиозных войн, включая конституционную демократию и свободу самовыражения, способствуют их развитию, а не задерживают его.
Равным образом «факт применения силы» – а именно, тот факт, что любой политический строй, сформированный вокруг единой идеологической доктрины, будет нуждаться в использовании государственной власти в качестве средства подавления, – связан не с возможностью реализации конкретного политического идеала, а с возможностью его воплощения в качестве «прочного и единого порядка» в условиях плюрализма. Таким образом, для Джона Ролза, независимо от того, осмысляются ли условия, которые представляет собой плюрализм, в терминах возможности или осуществимости, они в любом случае мыслятся как ограничения – как определяющие то, что является политически возможным или что может быть осуществлено посредством политического действия или политической власти. В соответствии с природой и масштабами сложившегося плюрализма нельзя сказать, что все акторы и группы схожим образом испытывают те ограничения, которые он накладывает: для одних групп плюрализм становится фактором процветания; для других же он может представлять собой препятствие.
Если бы предполагаемые «факты» играли лишь эту роль в политической теории современности, предлагаемой Ролзом, она не могла бы претендовать на то, чтобы быть полной политической теорией в том смысле, в каком я использую здесь этот термин. Вклад Ролза заключается в понимании того, что существуют различные типы социальных фактов, и, таким образом, некоторые из них – к примеру, плюрализм – являются «постоянными» и попросту не могут быть осмыслены в узких понятиях функциональной стабильности. Подобные стабильные социальные факты разумеется, могут представлять собой ограничения для осуществления идеала, однако не ограничивать возможность или осуществимость этого идеала как такового; в случае плюрализма, к примеру, демократические политические идеалы могли быть какими-то другими, чем либерализм. Без описания необходимой связи между отношениями социальных условий к осуществимости и возможности определение некоторых из них в качестве «постоянных» не может быть признано полностью корректным. Вместо этого лучше было бы думать о таких условиях скорее как об «институциональных данностях», глубоко укорененных в определенном, исторически обусловленном социальном порядке, чем как об универсальных нормативных ограничениях для демократических институций.
Этот подход позволяет нам рассматривать «факты», характерные для современных обществ, в прагматическом ключе: они являются именно теми тенденциями, которые укоренены в относительно длительных социальных процессах, последствия которых невозможно аннулировать за короткий период времени – к примеру, за одно поколение – посредством политического действия. Прагматические теории, таким образом, должны учитывать, каким образом подобные факты становятся частью конструктивного процесса, который можно было бы назвать «генеративным усилением» (Wimstatt 1974, 67–86)
Следовательно, когда силы, действующие в контексте социального факта, становятся мощнее, чем конкретные институциональные механизмы обратной связи, поддерживающие этот социальный факт в рамках существующей институции, данная институция должна быть трансформирована, чтобы сохранить подобающее отношение с фактами, которые делают ее осуществляемой и реализуемой. Все институции, включая демократические, усиливают определенные социальные факты, реализуя для них условия возможности.
Рассмотрим схожее понимание отношения социальных фактов к институциям у Хабермаса. Для него, как и для Ролза, плюрализм и использование политической власти в качестве средства принуждения обосновывают необходимость конституционного государства, в котором демократический процесс создания законов регулируется системой личных, общественных и гражданских прав. Тем не менее, Хабермас выделяет более фундаментальный факт для возможности и осуществимости демократии: структурный факт социальной сложности. Сложные общества являются «полицентричными», с разнообразными формами структур, некоторые из которых – к примеру, стихийная координация рынка – совершенно не обязательно будут отвечать идеалам демократии. Этот факт социальной сложности ограничивает возможность совместного политического действия и модифицирует наше понимание демократических институций. Разумеется, благодаря этому факту мы можем осознать, что невозможно просто декларировать принципы демократического самоуправления и критерии общественного согласия в качестве должных норм, в соответствии с которыми будут функционировать все социальные и политические институции, – и, кажется, это идеально показывает, каким образом глобализация ограничивает возможности укрепления демократии. Как выражает это сам Хабермас, «из-за неизбежной социальной сложности становится невозможным применение критериев [демократической законности] беспристрастным образом» (Habermas 1996: 305). Благодаря этому факту неизбежно возникают структуры определенного типа, так как комплексный характер означает, что демократия «не может более контролировать те условия, в которых происходит ее реализация». В этом случае социальный факт становится «неизбежным», и необходимы определенные институции для осуществления социальной интеграции, по отношению к которой «нет какой-либо правдоподобной альтернативы» (Хабермас 2003; Habermas 2001: 122).
Хотя это утверждение достаточно убедительно, ему все же недостает эмпирической очевидности. Хабермас здесь переоценивает те ограничения, которые влечет за собой факт социальной сложности, ведь этот факт совершенно незначительно ограничивает целый спектр побочных целей. Эти опосредованные формы демократии в свою очередь будут воздействовать на условия, порождающие саму социальную сложность, и таким образом состоят с ними в отношениях обратной связи. Условия, определяющие «факт» социальной сложности, таким образом, не являются одними и теми же по отношению ко всем осуществимым реализациям демократии, имеющим институциональные механизмы самоподдержания, которые способны усиливать сами себя, и некоторые идеалы демократии могут по праву способствовать сохранению определенных аспектов социальной сложности подобно тому, как эпистемическое разделение труда способствует коллегиальному решению проблем их плодотворному обсуждению. Как может это альтернативное понимание социальных фактов направлять критическую и праксеологическую теорию глобализации?
Если рассматривать это в свете тех требований, которые выдвигает прагматическая социальная наука, а также учитывая усиление социальных фактов, которому способствуют институции, конструктивисты справедливо уделяют повышенное внимание тому, как акторы производят и поддерживают социальные реальности, даже если они делают это не на собственных условиях.
Так, Дьюи считает, что социальные факты всегда связаны с «проблематичными ситуациями», даже если эта проблематичность скорее лишь чувствуется или допускается, не будучи пока полностью осознанной как таковая. Предложенный Дьюи способ, позволяющий не допускать превращения проблематичных ситуаций в эмпирико-нормативные дилеммы, заключается, в том, чтобы рассматривать сами факты в прагматическом ключе: «факты являются таковыми в логическом смысле лишь поскольку они определяют границы проблемы таким образом, который допускает указание на возможные решения и проверку этих решений» (Dewey 1938: 499). Они могут выполнять такую прагматическую роль только в том случае, если будут рассматривается во взаимодействии с нашим пониманием тех идеалов, которые направляют деятельность, где возникают такие проблемы, то есть когда ни факт, ни идеал не являются застывшими, и ни тот, ни другой не получает обосновывающего или теоретического первенства.
Дискуссия между Дьюи и Липпманом, касающаяся публичной сферы и той роли, которую она играет в демократии, является именно праксеологической в том смысле, который я ранее придал этому термину. Дьюи критиковал «существующую политическую практику», поскольку в ней повсеместно игнорируются “существование профессиональных групп и присущих им организованных знаний и целей”, демонстрирующее “зависимость от количественной суммы индивидуумов” (Дьюи 1997: 64). В то же время он признавал, что существующие институции представляют собой препятствие для появления подобной формы партиципаторной демократии в индустриальную эпоху, когда “побочные последствия [коллективных действий ] стали настолько всеобъемлющими, множественными, глубокими и сложными», а объединения людей, затронутых действиями такого масштаба, стали настолько многочисленными и разнообразными, “что составленному из подобных объединений обществу не удается достичь самоидентификации”. (Дьюи 2002: 93). Дьюи видел решение в трансформации как того, что должно будет в итоге стать обществом, так и тех институций, с которыми это общество взаимодействует. Такое взаимодействие сможет обеспечить основу для определения того, каким образом функции новых форм политической организации будут ограничены или расширены в масштабах, определяемых критически и экспериментально в прагматическом исследовании, которым является демократия в одном из своих аспектов (Дьюи 2002). Вопрос здесь стоит не только о текущей осуществимости политических идеалов, но также и о принципиальной возможности их осуществления, учитывая, что мы хотим сохранить приверженность демократическим принципам самоуправления, понимаемым в некотором широком смысле, даже если нас не интересуют возможности, предоставляемые существующими на данный момент институциями. Как нам идентифицировать подобные факты, являющиеся настолько нестабильными? Я перейду далее к обсуждению специфического социального факта, а именно – «факта глобализации», проинтерпретировав его не как единообразный совокупный процесс, а как проблематичную ситуацию, которую обитатели разных мест проживают различными, а порой и несоизмеримыми способами, видят ее из множества различных перспектив и оценивают по-разному в том, что касается нормативных идеалов демократии. Так как эта дискуссия принадлежит к относительно недавнему времени и вопросы, которые в ней обсуждаются, пока не имеют общепринятого решения, при помощи этого примера мы можем взглянуть на Критическую теорию в действии.
Факт глобализации и возможность демократии
Для некоторых сторонников критической теории относительная «новизна» того факта, который представляет собой глобализация, влечет за собой вывод о необходимости новых, более космополитических форм демократии и гражданства. Какую бы специфическую форму они ни приняли в будущих институциях, аргументы в пользу космополитических форм политики обычно относительно просты, несмотря на тот факт, что научные методы социального анализа, применяемые в этой аргументации, обладают высоким уровнем сложности и эмпирической разработанности в своих фактических утверждениях. Факт глобальной взаимозависимости, который осмысляется в обсуждениях различных теорий глобализации, состоит в том, что социальные взаимодействия обрели беспрецедентный размах, интенсивность и скорость, минуя границы, и это затрагивает разнообразные аспекты человеческого поведения, от торговли и культурного обмена до миграции (Хелд и др. 2004). Вывод, который делается из этих фактов взаимозависимости, таков, что существующие формы демократии, характерные для национальных государств, должны быть трансформированы, и что необходимо учредить такие институции, которые будут решать проблемы, выходящие за пределы государственных границ (Хелд 2014: 475-509). Таким образом, глобализация рассматривается как макросоциологический факт, имеющий сложносоставной характер, и этот факт ограничивает реализацию демократии, если только отсутствует должная согласованность между теми, кто создает альтернативы, и теми, кто принимает решения, исходя из этих альтернатив.
Альтернатива, которую предлагает Дьюи, заключается в понимании того, что факты «необходимо определить в их двойственной функции в качестве препятствий и в качестве возможностей» как проблемы, содержащие в себе условия, делающие возможной трансформацию ситуации (Dewey 1938: 399–400). «Простой» факт расширения масштабов социального взаимодействия, таким образом, не является адекватным, если рассматривать его сам по себе, и не дает ответа на вопрос о том, какую функцию может выполнять глобализация как ситуация, проблематичная для возникновения новых возможностей демократии.
Для теории такого рода глобализация представляет собой не единообразный, а скорее многоуровневый процесс. Даже понятие «комплексной взаимозависимости» может быть обманчивым, так как оно ошибочно предполагает, что цель состоит в возрастающей интеграции мира, гомогенизации культуры или политического сообщества (Keohane 2000: 117). Прагматический анализ лучше сохранит свой смысл посредством такой идеи как «взаимосвязанность», противоположной идее взаимозависимости в той степени, в какой эта последняя предполагает конвергенцию и сглаживание различий относительно тех вариантов, какими может переживаться глобализация. Скорее, здесь важно, как и с случае с фактом, который представляет собой плюрализм, увидеть, что процесс глобализации может быть разным в опыте различных людей или политических сообществ, учитывая, что это многоуровневый процесс, создающий «дифференцированный процесс, который находит свое выражение во всех ключевых областях социальной деятельности» (Хелд и др. 2004: 15). Что касается некоторых из этих сфер – к примеру, глобальных финансовых рынков – глобализация является глубоко неравномерным и чрезвычайно стратифицированным процессом, усиливающим иерархические отношения и неравенство при распределении ресурсов. Неравенство в том, что касается доступа к определенным аспектам глобализационных процессов и контроля над ними, может отражать более ранние паттерны субординации и порядка, даже если уже происходит порождение новых подобных паттернов при исключения некоторых сообществ из сферы финансовых рынков или принуждении других сообществ к тому, чтобы быть чувствительными к возрастающей скорости процесса глобализации (Hurrell and Woods 1999).
Если эти описания верны, то глобализация представляет собой новый тип социального факта, для которого характерна структура разрешений и запретов, которую нелегко уловить на уровне обобщений. Эта структура даже воспринимается противоречивым образом, если взглянуть на ее условия и оказываемое ею влияние, которое варьируется по отношению к различным сферам и в различных местах. Институции только тогда способны справляться с проблемами глобализации такими способами, которые учитывали бы интересы каждого, когда они обладают механизмами, гарантирующими, что полный набор всех возможных перспектив доступен для изучения. Это потребует от интернациональных финансовых институций расширить сферу своих исследований, чтобы охватить такие проблемы как социальная дезинтеграция и формы господства, порождаемые их политикой (Rodrik 1994, Woods 2001).
Необходимо обсудить еще один вопрос, касающийся факта глобализации, чтобы понять заключенные в ней внутренние возможности для демократии.
Как утверждали многие социальные теоретики, глобализация является частью взаимосвязанных и долговременных социальных процессов, начавшихся в раннее Новое время: по мнению Энтони Гидденса, «современность по своему существу глобализируется» (Гидденс 2011: 325). Даже если бы существовала возможность обратить вспять подобные процессы, это все равно невыполнимо в какой-либо короткий промежуток времени и при условии существующих демократических ограничений. Дело обстоит так же, как и с фактом плюрализма, о котором говорит Ролз: пока «глобализирующиеся» общества являются демократическими, можно ожидать, что подобные процессы будут продолжаться. Речь здесь не идет о том, что глобализация в своей текущей форме является чем-то постоянным или неизменным, пока мы стремимся реализовать демократические идеалы. Разумеется, именно то, каким образом глобализация будет продолжаться и какие нормативные ограничения она будет испытывать, становится насущным вопросом для демократической политики, поскольку граждане и общество энергично взаимодействуют с теми институциями, благодаря которым глобализация становится глубоко укорененным и стабильно протекающим во времени социальным фактом. Как бы глубоко ни пустила свои корни глобализация, тот социальный факт, который она собой представляет, по-прежнему остается открытым для демократической реконструкции, как только появляется достаточно творческая реинтерпретация демократии. В следующем разделе я рассмотрю недавние дискуссии среди представителей Критической теории о значимости Европейского союза как модели для подлинной трансформации демократии.
Новый идеал мультиперспективной демократии: Европейский союз
В исследованиях до сих пор принимается как должное устойчивый идеал демократии, состоящий в самоуправлении, осуществляемом посредством публичного обсуждения, в котором участвуют свободные и равноправные граждане – идеал делиберативной демократии, придающий форму как прагматизму, так и критической теории (Bohman 2004). Учитывая неравные и потенциально противоречивые обстоятельства глобализации, кажется ясным, что сами по себе демократические институции, существующие в настоящее время, не могут нести ответственность за все аспекты доминирования и субординации, которые становятся возможны, учитывая масштабы и интенсивность взаимозависимости. Каковы же альтернативы? Устремляясь к демократическим идеалам отсутствия доминирования, прагматическое знание, которое необходимо для обеспечения демократизации несправедливых и иерархизированных социальных отношений, требует эмпирического анализа текущих трансформаций и тех возможностей, которые сопряжены с таким анализом. В соответствии с демократическим идеалом автономии Дэвид Хелд и некоторые другие исследователи обращают особенное внимание на возникновение структур международного права, которые придают коллективным решениям определенную обязательную силу. С другой стороны, некоторые исследователи ищут способы реформировать структуры представительства, характерные для современных интернациональных институций (Pogge 1997, Habermas 2001). Другие же наблюдают за появлением различных институций в Евросоюзе, чтобы обсудить тенденденцию к интернациональному коституционализму или наднациональной дискуссии.
В соответствии с множеством перспектив, которые использует прагматическая философия социальных наук, нам здесь пригодится историческое описание того, как возникали единые или множественные институции. В своем мастерском анализе развития мирового порядка, выходящего за рамки национальных государств, Джон Джерард Рагги показывает, что возникновение современных форм суверенного государства и расширение социальных полномочий граждан началось в ту же самую эпистемологическую эпоху, к которой принадлежит также появление единой перспективной точки схода в изобразительном искусстве, картографии, оптике. «Концепция суверенитета, следовательно, представляла собой попросту доктринальный аналог применения перспективы с единой точкой схода при организации политического пространства» (Ruggie 2000: 186).
Сосредотачивая свое внимание на изменениях, затрагивающих власть государств, и на развитии Европейского союза, Рагги рассматривает «EU как первое мультиперспективное политическое сообщество, возникшее в современности», и, соответственно, связывает с ним появление новой политической формы. Концепция «мультиперспективной формы», кажется, предлагает «ту оптику, посредством которой можно взглянуть на другие примеры происходящих сегодня интернациональных изменений». Это же касается теории прагматического знания, которая способна давать пищу рефлексии о возможностях демократии в эпоху неравномерной глобализации.
Если политическая власть, которая в данное время содействует глобализации, нацелена на то, чтобы отвечать формированию демократической воли, то институции, в которых происходят такие общественные обсуждения, должны стремиться к тому, чтобы стать эксплицитно мультиперспективными в том смысле, который придает этому термину Рагги. Благоприятные условия для подобного расширения политических возможностей присутствуют уже в самом факте взаимозависимости – появление более мощного социального взаимодействия между гражданами, которые участвуют в том энергичном взаимодействии, которое пронизывает все транснациональное гражданское общество, и происходит в возникающих глобальных общественных сферах.
Сколь бы ни было важно наделять Европейский парламент все большими полномочиями, политика парламентаризма в лучшем случае играет опосредующую роль между транснациональными и национальными институциями, не являясь единственным средством демократизации (Хабермас 2003). Учитывая, что подобные институции не могут с легкостью расширять масштабы своего влияния и при этом сохранять свой полностью демократический характер, необходимо стремиться к выходу на другой институциональный уровень: к возможности проведения новых форм социальных исследований, которые способны постепенно перерасти в механизмы решения проблем Европейского союза.
Мультиперспективная общественная сфера: Критический и инновационный потенциал транснационального взаимодействия
Как могли бы появиться новые формы исследований, способные охватить большее число разнообразных перспектив, а также остаться демократическими? Здесь нам опять необходимо провести различие между формами дискуссии первого и второго порядка, где последние развиваются с целью приспособить возникающее общество к новым перспективам и интересам. С точки зрения Дьюи, нормальная способная к разрешению проблем деятельность демократических институций должна быть основана на энергичном взаимодействии между общественностью и этими институциями, происходящем в контексте определенного множества ограниченных альтернатив. Если институциональные альтернативы неявно адресованы иному варианту общества, чем тот, который в данный момент конституируется развивающимися институциональными практиками и результатами этих практик, общество способно к непрямому автореферентному действию – то есть к формированию другого варианта общества, с которым институции с необходимостью будут взаимодействовать.
Разумеется, это непростой процесс: «новое общество может сформироваться, только порвав с наличными политическими формами. А сделать это нелегко, поскольку сами эти формы являются общепринятыми средствами институционализации изменений» (Дьюи 2002: 26). Этот вариант инновационного процесса описывает появление таких транснациональных обществ, которые испытывают косвенное воздействие новых видов властных структур, возникающих в связи с необходимостью управлять «дерегуляризацией» и глобализацией. Подобное понимание демократического обучения и возникающих новшеств, кажется, не может быть ограничено масштабами институций, даже если потенциальные возможности доминирования также возрастают в условиях существующих соглашений.
Какова та общественная сфера, которая могла бы выполнять подобную нормативную задачу? В дифференцированных современных обществах (то есть обществах, разделенных на множество сфер, таких как рынки, государство, гражданское общество и так далее) одной из функций той особой коммуникации, которая происходит в общественной сфере, является постановка вопросов и обозначение проблем, которые проходят сквозь социальные сферы: таким образом не только распространяется информация о государстве и экономике, но и появляется пространство для критики, в котором пересекаются границы этих сфер, в первую очередь, в требованиях взаимной ответственности граждан. Но другой стороной этой генерализации является необходимость коммуникации, которая бы проходила сквозь социальные области: такая генерализация нужна именно потому, что общественная сфера становится менее социально и культурно гомогенной и более внутренне дифференцированной, чем форма, присущая ей в раннее Новое время. Вместо того, чтобы обращаться к предполагаемым общепринятым нормам «общественности» или к набору культурно специфических коммуникативных практик, космополитическая публичная сфера создается, когда по меньшей мере две культурно укорененные публичные сферы начинают накладываться одна на другую и пересекаться: к примеру, когда переводы и конференции создают космополитическую публичную сферу для разнообразных академических дисциплин.
Создание такого гражданского общества – это медленный и трудоемкий процесс, который требует в высшей степени рефлексивных форм коммуникации и проницаемости границ, а также ответственности, типичной для развитых публичных сфер. На основе своего общего понимания того, чем являются нарушения публичности, участники таких развитых публичных сфер будут развивать возможности общественной рациональности для того, чтобы пересекать и преодолевать границы и различия между личностями, группами и культурами.
В подобных обществах с подвижными границами скорость, масштаб и интенсивность коммуникативного взаимодействия, которое становится более простым благодаря таким сетям как Интернет, обеспечивает позитивные условия, позволяющие проводить демократические дисуссии, и, таким образом, создается потенциальное пространство для космополитической демократии. Такое развитие едва ли требует, чтобы общественная сфера была «интегрирована с системами медиа равных масштабов, которые занимают такое же социальное пространство, как и то, на которое будут оказывать влияние политические и экономические решения» (Garnham 1995: 265). Но если этого можно достичь через использование разветвленных сетей (таких как Интернет), а не массмедиа, то не стоит ожидать, что глобальная публичная сфера не будет более проявлять черты, характерные для государственной общественной сферы. Скорее, это будет общество обществ разветвленных сетей, встроенных в разнообразные институции, а не некая предполагаемая унифицированная публичная сфера.
Если мы изучим потенциальные способы, которыми Интернет может расширить возможности коммуникативного взаимодействия, то вопрос о том, является ли Интернет публичной сферой, станет скорее практическим вопросом, касающимся возможности, а не теоретическим – о том, как в действительности обстоят дела. Здесь все зависит не только от того, какие институции придают форму структуре Интернета, но также от того, как те, кто принимает участие в данном процессе, изменяют эти институции, а также от того, каким образом они осмысляют Интернет в качестве опубличной сферы. Всё зависит от медиации агентности, а не от технологии. С распространением неправительственных общественных организаций и других форм организации транснационального гражданского общества можно ожидать, что возникнут два различных взаимодействующих между собой уровня мультиперспективных инноваций: первый – новые институции, такие как Европейский союз, которые являются более приспособленными к тому, чтобы иметь множественные полномочия и разные уровни управления; и второй – энергичное транснациональное гражданское общество, которое создает общественные сферы вокруг различных институций с целью сделать формы их исследований более прозрачными, доступными и открытыми для большего разнообразия участников и перспектив. Этот подход не ограничивает источники демократического импульса стремления к транснациональному гражданскому обществу. Скорее, лучшей альтернативой будет отвергнуть одновременно восходящий и нисходящий подходы в пользу мощного взаимодействия между обществами и институциями, что станет непрерывным источником демократизации и институционального обновления.
В соответствии с прагматически вдохновленным демократическим экспериментализмом, для того, чтобы прилагать усилия, направленные на демократизацию и реформаторскую деятельность, не стоит ждать, пока появятся общества; они могут быть созданы посредством разнообразных практик. Совещательные неправительственные общественные организации могут в целом оказаться сильно переплетены с институциями, и, таким образом, перестанут генеративно усиливать свои собственные принципы. Эта практическая трудность очевидна в официальных организациях гражданского общества, принадлежащих Европейскому союзу, которые не могут обеспечить публичных дискуссий. Без дальнейших концептуальных и нормативных преобразований обращение к различным «восходящим» стратегиям демократизации остается нормативно недоразвитым (Dryzek 1996, Jaggar 2004). Даже будучи вдохновленной демократическими целями, эта форма политики не может адекватно улавливать комплексные взаимоотношения гражданского общества, государства и рынка, особенно если учесть все те несправедливости и всю асимметрию, которая свойственна процессу глобализации. Не говоря уже о мощных корпоративных акторах, которые действуют в гражданском обществе, негосударственные общественные организации из экономически преуспевающих регионов владеют значительными ресурсами, чтобы оказывать влияние и формировать структуру гражданского общества в других контекстах.
Кроме спонтанного появления обществ из транснациональных ассоциаций, можно также извлечь пользу из самостоятельно сконструированных заинтересованными сторонами обществ, которые работали бы как «мини-общества», уполномоченные вести дискуссии и принимать решения (Fung 2003). Сюда можно включить разнообразные эксперименты, начиная от совместного бюджета до информационных стендов и жюри из граждан, которые будут иметь различные полномочия для принятия решений. Должным образом наделенные полномочиями и сознательно сконструированные, мини-общества предлагают стратегию для того, чтобы выйти за пределы дилеммы внутренней консультации и внешней борьбы, которая является структурной чертой деятельности гражданского общества в существующих на данный момент интернациональных институциях. Поскольку сознательно созданные мини-общества стремятся включить всех заинтересованных участников, они не полагаются на представительство как на способ объединения интересов или на включение хорошо организованных акторов в качестве способа достигнуть эффективного достижения целей. Вместо этого они открывают возможность прямого процесса обсуждения внутри институции, который имеет столько перспектив, сколько возможно, и при надобности может воспроизводиться вновь. Мини-общество, таким образом, является институционально сконструированным посредником, хотя оно могло бы действовать так, чтобы становиться агентом для создания более многочисленных сообществ с нормативными силами. Если брать эту возможность, мини-общества могут стать открытыми и расширяемыми пространствами для демократических экспериментов. Хотя многое здесь является проблематичным или специфическим, такие эксперименты часто становятся моделями для демократического управления в рассредоточенных и разнообразных политических системах. В формулировках Коэна и Роджерса, более специфические и эпизодические практики нацелены на взаимные выгоды посредством улучшенной координации, тогда как экспериментальные дискуссионные практики, связанные с более масштабными политическими проектами, могут перераспределять власть и выгоды, и этим способом сохранять условия демократии в более общем смысле (Cohen and Rogers 2003: 251).
Можно принять такую же точку зрения относительно того, чтобы рассматривать существующие демократические институции в качестве специфической модели для демократизации. Если посмотреть только на ограничения относительно размера применительно к специфической форме политического сообщества, возникает вопрос, существуют ли альтернативные взаимосвязи между демократией и публичной сферой, которые не могут быть просто усилены. Такие связи могли быть более децентрализованными и полицентрическими, чем этого требует национальное сообщество.
Для национального государства быть демократическим означает иметь публичную сферу определенного рода, достаточную для того, чтобы создать сильное общество (public) при помощи его связей с парламентскими дискуссиями. Транснациональное, а поэтому и полицентрическое и плюралистическое сообщество, такое как Европейский союз, нуждается в некотором другом виде публичной сферы, чтобы обеспечить достаточный уровень демократических дискуссий. Если транснациональное и пост-территориальное политическое сообщество отвергает допущение, согласно которому оно должно быть тем, что Ролз называет «единственным кооперативным проектом в вечности», то может появиться более гибкое и доступное для обсуждения устройство с множественными властными структурами, действующими во множестве различных измерений, вместо того, чтобы существовала концентрация общественных полномочий и власти в одной точке. Без этой концентрации объединенная публичная сфера скорее становится препятствием для демократии, чем тем условием, которое обеспечивает для масс возможность участия в решениях в единственной точке локализации власти. Проблемой для экспериментальной институциональной модели прямой совещательной демократии является создание в точности подходящих отношений обратной связи между разветвленным обществом и подобным полицентрическим процессом принятия решений. Уроком для критической теории глобализации будет посмотреть на расширение политического пространства и перераспределение политической власти не только как на ограничение, подобное тому, каким является комплексность, но также как на открытое поле возможностей для инновационных, распределительных и мультиперспективных форм гласности и демократии.
Центральным и по-прежнему открытым вопросом для подобной практически ориентированной социальной науки является следующее: какие доступные формы праксиса способны обеспечить трансформации, которые могли бы вести к новым формам демократии? Каков тот вид практического знания, который необходим, чтобы сделать это возможным и как могло бы это знание быть стабилизированным в институционализированных формах демократического решения проблем? Каковы возможности и перспективы для демократии на более высоком уровне объединения, который глобализация делает возможным? Как может быть публичная сфера быть реализована на глобальном уровне? Из дискуссии, которая ведется по этому поводу, следует, что демократические исследования и институции должны выходить за рамки доминирующих в национальной политической жизни способов понимания демократии, для которых характерна единственная перспектива, а также различные административные техники (techne), общие для интернациональной сферы. Критическая праксеология реализуемых норм в мультиперспективных институциях могла бы добавить, что здесь также стоит рефллексивный вопрос о том, чтобы поместить такую организацию в более широкий контекст проекта эмансипации человечества. Подобное интерактивное понимание сообществ и институций придает убедительное практическое значение расширению демократического проекта до глобального уровня. Оно также моделирует в своей собственной форме социальной науки тот способ исследования, который это и другие сообщества могут использовать при создании и оценке возможностей для реализации демократии.
Так как новые практики не обязательно должны быть смоделированы на основе старых, то перед нами не теория демократии как таковой, но теория демократизации.
Заключение: критическая теория и нормативные исследования
Сталкиваясь с теми вызовами, которые представляют собой новые социальные факты, критическая теория остается жизнеспособной философской традицией для нормативных дисциплин социальной и политической философии. Более того, эта жизнеспособность усиливается, когда она рассматривает спектр демократических требований, которые здесь не обсуждались и каждое из которых в равной степени представляет собой вызов для фундаментальной концептуальной структуры демократии, справедливости и их взаимоотношений: сюда относятся проблемы аборигенов, инвалидов, женщин и так далее.
С прагматической точки зрения, критическое исследование нацелено на создание рефлексивных условий, необходимых для практической верификации этого исследования, и эти условия определяются не только демократическими институциями, но и тем, какие общества используют критические социальные теории и методы в качестве момента исследования их демократической политики. С появлением новых форм критической теории, поднимающих вопросы расизма, сексизма и колониализма, рефлексивные социальные агенты трансформируют те же самые демократические идеалы и практики, имея в виду интересы эмансипации. Усиливая новые социальные факты, агенты трансформируют и сами идеалы – так же, как их институциональную форму.
Во-первых, предлагает ли критическая теория специфическую форму социальных исследований? Во-вторых, каким типом знания обеспечивает нас это исследование для того, чтобы давать понимание социальных обстоятельств и оправдывать социальную критику существующих идеалов и институций? Наконец, какого рода верификация требуется критическому исследованию? В свете приведенных в данной статье ответов, которые даются на эти вопросы путем практической, демократической и мультиперспективной интерпретации, похоже, что критическая теория не является более уникальным подходом. Методологически она становится плюралистической в более глубоком смысле. В применении к политике критическая теория перестает писаться с заглавных букв, поскольку цели и борьба, которая ведется в эпоху глобализации, становятся все более разнообразными и перестают автоматически связываться с ориентацией на какую-либо конкретную холистическую социальную теорию. Учитывая ее собственные демократические цели, было бы нелегко оправдать какую бы то ни было другую интерпретацию. В период, когда философия взаимодействует с эмпирическими науками и дисциплинами, критическая теория предлагает подход к отчетливым образом нормативным проблемам, и этот подход, позволяет сотрудничать с социальными науками, избегая при этом редукционизма.
В рамках данного подхода также могут осмысляться социальные факты как проблематичные ситуации с точки зрения различным образом локализованных агентов.
Таким образом, этот тип нормативного практического знания является рефлексивным и находит свою опору в непрерывных, трансформирующихся нормативных предприятиях, таких как демократия, которые равным образом рефлексивны на практике
Возможно, одна из наиболее губительных форм идеологии сейчас воплощена в претензии на то, что не существует альтернатив существующим институциям. В эпоху, когда наблюдается снижение ожиданий, у социально-научной и нормативно ориентированной демократической критики остается одна важная роль – предлагать новые альтернативы и творческие возможности вместо пораженческих заявлений о том, что мы находимся в конце истории. Ведь это означало бы не только конец исследований, но также и конец демократии.
Библиография
На русском языке
Адорно Т. Негативная диалектика. Перевод на русский язык: Е. Л. Петренко. —М.: АСТ, 2014. 512 с.
Арон, Раймон. Мир и война между народами : Пер. с фр. /Раймон Арон; Под общ. ред. В. И. Даниленко. – М. : NOTA BENE , 2000. 880 с.: ил.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М., 2003.
Гемпель Карл Густав. Логика объяснения / Сост. О.А. Назаровой. – М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. – 240 с.
Гидденс, Энтони. Последствия современности. Пер. с англ. Г. К. Ольховикова; Д. А. Кибальчича; вступ. статья Т. А. Дмитриева. – М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. – 352 с. – (Серия «Образ общества»)
Гирц К. Интерпретация культур/ Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 560 с.
Дьюи Дж. Либерализм и социальные действия / Пер. В. Нагдасевой // Демократия и ХХ век: Хрестоматия по курсу гражданского образования для педагогических университетов. – Нижний Новгород, 1997. С. 55–70.
Дьюи Дж. Общество и его проблемы / Пер. с англ. И. И. Мюрберг, А. Б. Толстова, Е. Н. Косиловой. – М.: Идея-Пресс, 2002.
Хабермас Юнгер. Постнациональная констелляция и будущее демократии. / Логос №4-5(39), 2003
Хабермас Юрген. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: Наука, 2001.- 382 с.
Хабермас Юрген. Проблема легитимации позднего капитализма. // Москва, издательство «Праксис», 2010 г. – 264с. – (Серия «Образ общества» )
Хабермас Юрген. Техника и наука как «идеология». Сборник статей. – Перевод с немецкого М. Л. Хорькова. – М., 2007. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 18.03.2013. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6261/6266
Хабермас Юрген. Философский дискурс о модерне. Пер. снем. – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. – 416 с.
Хелд Д., Макгрю Э., Гольдблатт Д., Перратон Дж.. Глобальные преобразования: политика, экономика, культура / Пер. с англ. В. В. Сапова и др. – М.: Праксис, 2004. – xxiv, 576 с.
Хелд, Девид. Модели демократии. Третье издание / Дэвид Хелд; пер.с англ. М.Рудакова. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 544 с.
Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. М: Канон+РООИ «Реабилитация», 2011. 244 с.
Хоркхаймер М., Адорно Теодор В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.: Медиум, 1997
На других языках:
Adorno, T.W. et al., 1953. Studies in the Authoritarian Personality. New York: Norton.
Baynes, K., 1995. “Democracy and the Rechtsstaat,” in The Cambridge Companion to Habermas, S. White (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Bohman, J., 1991. New Philosophy of Social Science: Problems of Indeterminacy, Cambridge: MIT Press.
–––, 1996. Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy, Cambridge: MIT Press.
–––, 1999a. “Democracy as Inquiry, Inquiry as Democratic: Pragmatism, Social Science, and the Cognitive Division of Labor,” American Journal of Political Science, 43: 590–607.
–––, 1999b. “Theories, Practices, and Pluralism: A Pragmatic Interpretation of Critical Social Science,” Philosophy of the Social Sciences, 29: 459–480.
–––, 2000. “The Importance of the Second Person: Normative Attitudes, Practical Knowledge, and Interpretation,» in Empathy and Agency: The Problem of Understanding in the Human Sciences, K. Stueber and H. Koegler (ed.), Boulder: Westview Press, 222–242.
–––, 2002. “Critical Theory as Practical Knowledge,” Blackwell Companion to the Philosophy of the Social Sciences, Paul Roth and Stephen Turner (eds.), London: Blackwell, 91–109.
–––, 2003. “How to Make a Social Science Practical: Critical Theory, Pragmatism, and Multiperspectival Theory,» Millennium, 21 (3): 499–524.
–––, 2004. “Realizing Deliberative Democracy as a Mode of Inquiry,” Journal of Speculative Philosophy, 18 (1): 23–43.
Brandom, R., 1994. Making It Explicit, Cambridge: Harvard University Press.
Cohen, J. and C. Sabel, 2003. “Sovereignty and Solidarity in the EU,» in Governing Work and Welfare in the New Economy: European and American Experiments, J. Zeitlin and D. Trubek (eds.), Oxford: Oxford University Press, 345–375.
Dewey, J., 1938. Logic: The Theory of Inquiry. The Later Works: 1938, Volume 12, Carbondale IL: Southern Illinois University Press, 1986.
Dryzek, J., 1996. Democracy in Capitalist Times, Oxford: Oxford University Press
Epstein, S., 1996. Impure Science: AIDS, Activism and the Politics of Knowledge, Berkeley: University of California Press.
Fung, A., 2003. “Recipes for Public Spheres.” Journal of Political Philosophy, 11 (3): 338–367.
Garnham, N., 1995. “The Mass Media, Cultural Identity, and the Public Sphere in the Modern World,” Public Culture, 5 (3): 254–276.
Geuss, R., 1981. The Idea of a Critical Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
Habermas, Jurgen, 1973. Theory and Practice, Boston: Beacon Press.
–––, 1979. Communication and the Evolution of Society, Boston: Beacon.
–––, 1984, 1987. The Theory of Communicative Action, Volumes 1 and 2. Boston: Beacon Press.
–––, 1988. The Logic of the Social Sciences, Cambridge: MIT Press.
–––, 1989 (1961). The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge: MIT Press.
–––, 1991. Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge: MIT Press.
–––, 1993. Justification and Application. Cambridge: MIT Press.
–––, 1996. Between Facts and Norms, Cambridge: MIT Press.
Horkheimer, M., 1972. Bemerkungen zur Religion, Frankfurt: Fisher Verlag.
–––, 1972. Critical Theory, New York: Seabury Press; reprinted Continuum: New York, 1982.
–––, 1993. Between Philosophy and Social Science, Cambridge: MIT Press.
Hurrell, A. and N. Woods (eds.), 1999. Inequality, Globalization, and World Politics, Oxford: Oxford University Press.
Jaggar, A., 2004. “Feminism and Global Citizenship.” Feminism in a Global Society, M. Friedman (ed.), Oxford: Oxford University Press.
Jay, M., 1984. Marxism and Totality, Berkeley: University of California Press.
Kelly, T., 2000. “Sociological, not Political,” Philosophy of the Social Sciences, 3: 3–20.
Keohane, R., 2000. “Sovereignty in International Society,” Global Transformations Reader, A. McGrew (ed.), Cambridge: Polity Press, 105–109.
H. Kögler, H. and K. Stueber (eds), 2000. Empathy and Agency: The Problem of Understanding in the Human Sciences, Boulder: Westview Press.
Linklater, A., 2001. “The Changing Contours of Critical International Relations Theory,» Critical Theory and World Politics, R. W. Jones (ed.), London: Lynne Reinner, 23–44.
Longino, H., 1990. Science as Social Knowledge, Princeton: Princeton University Press.
Mansbridge, J., 1991. “Feminism and Democratic Community,” in Democratic Community, J. Chapman and I. Shapiro (ed.), New York: New York University Press, 339–396.
Marcuse, H., 1969. Negations, Boston: Beacon Press.
McCarthy, T. and D. Hoy, 1994. Critical Theory, London: Basil Blackwell.
MacCormick, N., 1997. “Democracy, Subsidiarity and Citizenship in the ‘European Commonwealth,’” Law and Philosophy, 16: 327–346.
Mills, C., 1997. The Racial Contract, Ithaca: Cornell University Press.
Minnow, M., 1990. Making All the Difference, Ithaca: Cornell University Press.
Нойманн Франц Леопольд. Бегемот. Структура и практика национал-социализма 1933-1944 / пер. Быстрова В.Ю. М.: Владимир Даль, 2015. 592 с.
Pettit, P., The Common Mind, Oxford: Oxford University Press, 1992.
Pogge, T., 1997. “Creating Supra-National Institutions Democratically: Reflections on the European Union's Democratic Deficit,” in The Journal of Political Philosophy, 5: 163–182.
Putnam, H., 1994. Words and Life, Cambridge: Harvard University Press.
Rawls, J., 1999. “The Idea of an Overlapping Consensus,” in Collected Papers, Cambridge: Harvard University Press, 421–448.
Rodrik, D., 1994. Has Globalization Gone Too Far?, Washington, D.C.: Foreign Affairs Press.
Rorty, R., 1991. “Inquiry as Recontextualization,” in The Interpretive Turn, D. Hiley, J. Bohman and R. Shusterman (ed.), Ithaca: Cornell University Press.
–––, 1996. “The Ambiguity of ‘Rationality’”, Constellations, 3: 74–82.
Ruggie, G., 2000. Constructing the World Polity, London: Routledge.
Silliman, J., 1998. “Expanding Civil Society, Shrinking Political Spaces: The Case of Women NGOs,» in Dangerous Intersections: Feminist Perspectives on Population, Development and the Environment, Y. King and J. Silliman (eds.), Boston: Southend Press, 133–162.
Verba, S., K. Lehman Schlozman, and H. Brady, 1995. Voice and Equality: Civic Voluntarism in America, Cambridge: Harvard University Press.
Weber, M., 1949. The Methodology of the Social Sciences, New York: Free Press.
Woods, N., 2002. “Making the IMF and the World Bank More Accountable,” International Affairs, 77: 83–100.
Wimstatt, W. 1974. “Complexity and Organization.» Proceedings of the Philosophy of Science Association, R. S. Cohen (ed.), Dordrecht: Reidel, 67–86.
Wiggershaus, R., 1994. The Frankfurt School, Cambridge: MIT Press.
Young, I., 2002. Democracy and Inclusion, Oxford: Oxford University Press.