Ген
Впервые опубликовано 26 октября 2004 г.; основательно переработано 19 февраля 2015 г.
При этом очевидно, что в генетике так и не появилось единого общепринятого определения гена. Результатом более чем ста лет генетических исследований стало появление разнообразных понятий “гена”, которые иногда дополняют, а иногда противоречат друг другу. Одни философы и ученые пытались исправить эту ситуацию либо за счёт “вертикальной” редукции всего многообразия понятий “генов” к фундаментальной единице, либо “горизонтального” объединения их в одно общее понятие. Другие же исследователи отдали предпочтение плюралистическим позициям. Как следствие, “ген” стал популярной темой в философии науки, предметом оживленного обсуждения наряду с вопросами редукции, эмерджентности или супервентности понятий и теорий (вместе с эпистемическими сущностями, к которым эти понятия и теории отсылают). Однако все попытки достичь консенсуса по этим вопросам до сих пор не увенчались успехом. В настоящее время, когда определение последовательности человеческого генома было завершено и началась так называемая “эра постгеномики”, генетика снова переживает время концептуальных потрясений. Понятие гена, сформировавшееся после века генетических исследований, было и остается, как не так давно напомнил нам Рафаэль Фальк, “напряжённо растянутым понятием”. (Falk 2000).
План данной статьи, следовательно, будет в значительной степени историческим. Существует несколько работ на тему исторического развития и расхождения вариаций понятия гена, написанных с точки зрения истории идей (Dunn 1965; Stubbe 1965; Carlson 1966, 2004; Schwartz 2008). Хотя в основном мы будем следовать общепринятой версии развития событий, используемой в этих трудах, наша перспектива будет несколько иной — мы будем рассматривать гены как эпистемические объекты, т. е. объекты идущих в настоящее время исследованиий. Это означает, что мы будем не просто соотносить между собой устоявшиеся понятия “гена”, но скорее анализировать, как такие понятия определялись и модифицировались под действием изменяющихся экспериментальных практик и систем проведения экспериментов (см. также статью об экспериментах в биологии в SEP). Обрисовав тем самым обширную историческую “панораму” генов как “пребывающих в движении понятий ” — если пользоваться многозначительным выражением Иегуды Элкана (Elkana 1970; cf. Falk 1986), — мы вкратце рассмотрим некоторые более общие философские темы, для обсуждения которых понятие гена стало удобным “поводом”. Они связаны с темой редукции, но в их перечень также входят вопросы о причинности в живых системах (более подробную информацию см. в статьях SEP о молекулярной биологии, молекулярной генетике, биологической информации и редукционизме в биологии; см. также сравнительно недавнюю монографию о философских вопросах, касающихся генетики у Griffiths and Stotz 2013).
Предыстория понятия гена
Прежде чем перейти к рассмотрению исторических этапов тех запутанных путей, которыми развивалось понятие гена, следует обсудить, как оно возникло. Наследственность стала одной из главных проблем биологии только в XIX веке (López Beltrán 2004; Müller-Wille and Rheinberger 2007 и 2012).
С возникновением наследственности как области биологических исследований возникли вопросы о ее материальной основе и механизме. Во второй половине XIX века для решения этих вопросов были предложены два альтернативных подхода. Первый представлял наследственность как силу, мощность которой накапливается в течение поколений, и которая, будучи измеримой величиной, может быть подвергнута статистическому анализу. Это понятие особенно широко распространилось среди селекционеров XIX века (Gayon and Zallen 1998) и оказало влияние на Фрэнсиса Гальтона и так называемую “биометрическую школу” (Gayon 1998, 105-146). В рамках второго подхода наследственность рассматривалась как пребывающая внутри материи, передаваемой от одного поколения к другому.
Данная стратегия объяснения также включала в себя две различные и значимые линии мысли. В первой наследуемое вещество рассматривалось как состоящее из частиц и поддающееся селекционному анализу.
Однако ни один из этих авторов XIX века не додумался связать эти частицы с какой-то особым наследуемым веществом. Все считали, что они состоят из того же самого вещества, из которого состоят остальные части организма, так что их простой рост, рекомбинация и накопление в массе делают видимыми определенные черты, за которые эти частицы ответственны. Другие биологи второй половины XIX века, среди которых были Карл Негели и Август Вейсман, отделяли вещество тела, “трофоплазму” или “сому”, от специфической наследуемого вещества, “идиоплазмы” или “зародышевой плазмы”, которая, как предполагалось, отвечала за межпоколенческую наследственность. Тем не менее, они считали, что эта идиоплазматическая субстанция как таковая не состоит из твердых частиц, хотя и является высокоорганизованной. В работах Вейсмана описывалось, что она остаётся нетронутой в зародышевых клетках, но необратимо дифференцируется в различные клетки тела в процессе развития организма. У Негели она передавалась даже от клетки к клетке и по всему телу, создавая капиллярную наследственную систему, аналогичную нервной системе (Robinson 1979; Churchill 1987; Rheinberger 2008).
Мендель стоит особняком среди этих биологов, хотя он работал в рамках четко определенной ботанической традиции гибридных исследований. Его обычно считают предшественником генетики XX века (см., однако, Olby 1979, а также более позднее обсуждение в Orel and Hartl 1997). Как утверждал Жан Гайон, в статье 1865 года Мендель атаковал наследственность под совершенно новым углом зрения, интерпретируя ее не как измеряемую величину, - как делала биометрическая школа на более позднем этапе, - а как “определенный уровень организации”, “структуру в данном поколении, которая должна быть выражена в контексте конкретных скрещиваний”. Вот почему Мендель применил “исчисление различий”, т.е. комбинаторную математику, для разрешения проблемы наследственных явлений (Gayon 2000, 77-78). Вместе с тем он ввел новый формальный инструмент для анализа экспериментов по гибридизации, который к тому же был основан на новом режиме проведения эксперимента: отборе пар альтернативных и “постоянных” (т. е. наследуемых) признаков. Мендель считал, что эти признаки связаны “постоянным законом развития” с определенными “элементами” или “факторами” в репродуктивных клетках, из которых организмы развились. Таким образом, анализ распределения альтернативных признаков в гибридном потомстве мог бы рассказать нечто о взаимоотношениях, в которые вступали лежащие в их основе “факторы” при объединении в организме родителя данного гибрида (Müller-Wille and Orel 2007).
Понятие гена в классической генетике
1900 год можно назвать annus mirabilis‹1› для новой дисциплины, вскоре получившей название генетики. В этом году три ботаника - Хуго де Фриз, Карл Корренс и Эрих Чермак - доложили о своих селекционных экспериментах конца 1890-х и заявили, что подтвердили закономерности в передаче признаков от родителей к потомству, которые уже были представлены Менделем в основополагающей работе 1865 года (Olby 1985, 109-37). В целом, в экспериментальных скрещиваниях‹2› Zea mays, Pisum и Phaseolus они наблюдали, что ответственные за пары альтернативных признаков элементы, так называемые “аллеломорфы” — более позднее понятие за авторством Уильяма Бейтсона (1902), сокращение от которого, “аллели”, вскоре сделалась общеупотребительным — случайным образом расщеплялись [сегрегировались] во втором дочернем поколении (закон сегрегации Менделя), и что эти элементы передавались независимо друг от друга (закон независимого наследования признаков Менделя).
Дополнительное наблюдение, что иногда несколько элементов вели себя так, как будто они связаны, способствовало вскоре выдвинутому Уолтером Саттоном и Теодором Бовери предположению, что эти элементы расположены группами на разных хромосомах в ядре. Таким образом, хромосомная теория наследования предполагала, что закономерности передачи признаков базировались на цитоморфологии, в частности в ядерной морфологии, в которой отдельные хромосомы сохраняют свою тождественность в течение поколений (Coleman 1965; Martins 1999).
Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны биометрической школы (Provine 1971; Mackenzie and Barnes 1979), быстро укрепилось понимание того, что возможность независимого расхождения дискретных наследственных факторов в соответствии с законами вероятности должна рассматриваться как краеугольный камень новой “парадигмы” наследования (Kim 1994). Это произошло после первоначального периода объединения, который Элоф Карлсон назвал “ошибкой единицы признака” (Carlson 1966, ch. 4), сопровождавшегося установлением категориального различия между генетическими факторами, с одной стороны, и признаками или характеристиками, с другой. Маскирующий эффект доминантных признаков над рецессивными и последующее повторное появление рецессивных признаков были особенно полезны в стабилизации этого различия (Falk 2001). Кроме того, это различие перекликалось с более ранним понятием двух видов (regimes) существования материи, зародышевого и телесного, выдвинутого ранее Негели и Вейсманом.
Однако, если — как заявил Корренс в первом обзоре работ последователей Менделя в 1901 году — “мы не можем поддерживать идею неизменного закрепления [наследственных факторов] в зародышевой плазме, но, в силу их смешиваемости, должны предполагать некоторую их подвижность, по крайней мере в определенные моменты”, и если хромосомное сцепление — возможный, но отнюдь не необходимый и общий механизм передачи структуры в наследовании, как тогда можно объяснить последовательное и регулярное физиологическое развертывание расположений частей (Anlagen) в ходе упорядоченного развития организма? Чтобы разрешить эту трудность, Корренс придумал следующую, как он выразился, “ересь”:
Я предполагаю, что очаг Anlagen не имеет постоянного закрепления и располагается в ядре, особенно в хромосомах. Кроме того, я предполагаю, что вне ядра, в протоплазме, находится механизм, который отвечает за их развертывание. Тогда Anlagen могут смешиваться как угодно, словно цветные стеклышки в калейдоскопе; и все же они разворачиваются в нужном месте ([1901], цитата по Correns 1924, 279).
Таким образом, Корренс в начале первого десятилетия XX века выделил наследственное пространство, обладающее логикой и метрикой, не зависящими от другого, физиологического и развивающегося пространства, представленного цитоплазмой.
К концу первого десятилетия ХХ века, после того как в 1906 году Бейтсон ввел термин генетика для новой, зарождающейся области исследований наследственности, Вильгельм Йоханнсен закрепил упомянутое выше различие, обозначив эти два пространства понятиями генотипа и фенотипа соответственно.
В отличие от Корренса, Йогансен рассматривал генотип и фенотип как абстрактные сущности, не ограничивая их определенными клеточными пространствами и на протяжении всей своей жизни сохранив скепсис по отношению к хромосомной теории наследования. Кроме того, для элементов генотипа Йогансен предложил понятие гена, которое для него было “совершенно свободным от всякой гипотезы” относительно расположения и вещественного состава (Johannsen 1909, 124).
Введенное Йогансеном различие, основанное на микробиологическом подходе к “чистой культуре”, практике селекционеров по выделению “чистых линий”, а также понятии Ричарда Вольтерека о врожденной “норме реакции”, было постепенно подхвачено генетическим сообществом и глубоко повлияло на всю биологию XX века (Allen 2002, Müller-Wille 2007). Мы можем с уверенностью сказать, что оно определило ген как эпистемический объект, подлежащий изучению в его собственном пространстве, и вместе с тем “точное, экспериментальное учение о наследственности” (Johannsen 1909, 1), чей интерес фокусировался лишь на передаче, а не развитии организма в окружающей его среде. В связи с этим разделением некоторые историки говорят о “сепарации” генетических и эмбриологических проблем (Allen 1986; Bowler 1989). Другие считают, что данное разделение само по себе стало выражением эмбриологических интересов ранних генетиков в поиске “инвариантов развития” (Gilbert 1978; Griesemer 2000). Как бы то ни было, в результате отношения между двумя пространствами, которые некогда разделила абстракция, получили экспериментальное истолкование каждое, заявив о собственных правах (Falk 1995). Мишель Моранж задним числом заметил, что это “разделение было логически абсурдным”, но — “исторически и научно необходимым” (Morange 2001, 9).
Сам Йогансен подчеркивал, что генотип должен рассматриваться как независимый от любого жизненного цикла и, таким образом — по крайней мере в пределах интервала времени, в котором проводилось исследование — как “внеисторическая” сущность, подлежащая научному исследованию наравне с физическими и химическими объектам (Johannsen 1911, 139; cf. Churchill 1974; Roll-Hansen 1978a). “Личные качества любого индивидуального организма вовсе не обусловливают качеств его потомства; однако и качества предка, и потомка совершенно одинаково определяются природой половых субстанций”, — утверждал Йогансен (Johannsen 1911, 130). Впрочем, в отличие от большинства сторонников Менделя, он был по-прежнему убежден, что генотип будет обладать общей архитектурой — как это выражено в понятии “типа”. Поэтому он высказал оговорки в отношении того, что генотип в реальности состоит из частиц, и предупреждал, что понятие “генов для конкретного признака” всегда должно использоваться с осторожностью, если вообще достойно употребления в принципе (Johannsen 1911, 147). Йогансен также сознательно хранил нейтралитет в отношении материального строения генотипа и его элементов. Он ясно сознавал, что экспериментальный, - хотя и не менее научный, чем физика или химия, - характер Менделевской генетики равно не требует и не допускает никаких определенных предположений о материальной структуре генетических элементов. “Лично я, — писал он еще в 1923 году, — верю в великое центральное нечто как то, что еще не делимо на отдельные факторы”, отождествляя это “нечто” со специфической природой организма. “Мухи-дрозофилы в великолепных опытах Моргана, — объяснял он, — продолжают оставаться мухами-дрозофилами, даже если они теряют все хорошие гены, необходимые для нормальной жизни мухи, или даже если они становятся обладателями всех плохих генов, вредных для благополучия этого маленького друга генетика” (Johannsen 1923, 137).
В рамках этого подхода гены рассматривались как абстрактные элементы столь же абстрактного пространства, чья структура, однако, могла быть исследована с помощью видимых и поддающихся количественной оценке результатов селекционных экспериментов, основанных на модельных организмах и их мутациях. Такова была исследовательская программа Томаса Ханта Моргана и его группы. С начала 1910-х годов вплоть до 1930-х растущее вокруг Моргана сообщество исследователей и их последователей использовало конструируемые все более сложными способами мутации плодовой мухи Drosophila melanogaster. Они занимались этим, чтобы создать карту генотипа плодовой мухи, в которой гены и, следовательно, их аллели фигурировали бы как генетические маркеры, занимающие определенный локус на одной из четырех гомологичных хромосомных пар мухи (Kohler 1994). Основные допущения, благодаря которым программа работала, заключались в том, что гены расположены в линейном порядке вдоль различных хромосом (подобно “бусинкам на нитке”, как выразился Морган в работе Morgan 1926, 24), и что частота рекомбинационных событий между гомологичными хромосомами, - то есть частота пересечений при редукционном делении [мейозе], - служит мерой расстояния между генами, в то же время определяя их (гены) как единицы рекомбинации (Morgan et al., 1915).
На деле опознаваемые аспекты фенотипа, предположительно определяемые генами напрямую в манере, намеренно уподобленной “черному ящику”, использовались в качестве индикаторов или окон для представления о формальной структуре генотипа. Именно его Мосс назвал “ген-Р” (Р означает фенотип (phenotype), но также и преформизм; Moss 2003, 45 – об аналоге, “ген-D”, см. ниже). На протяжении всей карьеры Морган осознавал формальный характер своей программы.
Даже в 1933 году, выступая с Нобелевской речью, он заявил:
“на том уровне, на котором проводятся генетические эксперименты, не имеет ни малейшего значения, является ли ген гипотетической единицей или же материальной частицей” (Morgan 1935, 3). В частности, не имело значения, какие отношения существуют между генами и признаками — взаимно-однозначные или более сложные (Waters 1994).
Морган и его школа хорошо знали, что, как правило, в развитии определенного признака, например, цвета глаз, участвуют многие гены и что один ген может влиять на несколько признаков. Чтобы справиться с этой трудностью, а также для соответствия режиму ведения эксперимента, они приняли отличительное [дифференциальное] понятие гена. Для них была важна связь между изменением гена и изменением признака, а не природа самих этих сущностей. Таким образом, изменение признака может быть причинно связано с изменением (или потерей) одного генетического фактора, даже если в целом вполне вероятно, что такой признак, как цвет глаз, на самом деле определяется целой группой по-разному взаимодействующих генов (Roll-Hansen 1978b; Schwartz 2000).
Очарование приведённого выше понятия гена заключалось в том факте, что при правильном применении оно служило точным инструментом в исследованиях развития и эволюции. С одной стороны, классическое понятие гена позволило определить процессы развития, идущих сквозь поколения. Как следствие, методы классической генетики вскоре были интегрированы в арсенал методов, разрабатываемых эмбриологами с конца XIX века для “отслеживания” развития. (Griesemer 2007). С другой стороны, математические генетики, такие как Рональд А. Фишер, Дж. Б. С. Холдейн и Сьюэлл Райт, могли столь же строго и точно использовать классическое понятие гена для разработки проверяемых математических моделей, описывающих влияние эволюционных факторов, таких как отбор и мутации, на генетический состав популяций (Provine 1971). Как следствие, эволюция была переопределена как изменение частот генов в генофонде популяции в том, что многие называли “эволюционным”, “неодарвинистским” или просто “современным синтезом” конца 1930-х и начала 1940-х годов (Mayr & Provine 1980, Gayon 1998). Классическое понятие гена рассматривалось как “инвариант развития” в процессе воспроизводства и подчинялось исключительно законам Менделя при передаче от одного поколения к другому. Такое понимание обеспечивало своего рода принцип инерции, благодаря которому можно с предельной точностью измерять как эффекты развития (эпистаз‹3› , ингибирование, эффект положения‹4› и т. д.), так и эволюционные факторы (отбор, мутация, изоляция, рекомбинация и т. д.) (Gayon 1995, 74). Мы вернемся к эволюционному синтезу в третьем разделе; в оставшейся же части данного раздела мы хотели бы обратиться к раннему этапу истории генетики развития, который сыграл важную роль в конечном “овеществлении” гена.
Несмотря на формальный характер классического понятия гена, в 1920-е годы многие генетики, в том числе студент Моргана по имени Герман Мюллер, пришли к убеждению, что гены должны быть материальными частицами. Мюллер считал, что гены в своей основе наделены двумя аспектами: автокатализом и гетерокатализом.
Автокаталитический аспект позволял им размножаться как единицам передачи наследственности и таким образом соединять генотип одного поколения с генотипом следующего. Сопутствующая способность надёжно воспроизводить мутации, как только они произошли, тем самым породила возможность эволюции.
Гетерокаталитический аспект связывал ген с фенотипом в качестве единицы функции, участвующей в выражении определенного признака.
В экспериментальной работе Мюллер добавил важный аргумент в пользу материальности гена, связанный с третьим аспектом гена как единицы мутации. В 1927 году он сообщил об индукции менделевских мутаций у Drosophila с помощью рентгеновских лучей. Хотя он не был первым, кто использовал рентгеновское излучение для вызывания мутаций, но Мюллер выделился из общего ряда благодаря выводу о том, что рентгеновские лучи вызывают мутации путем становящегося постоянным изменения некоторой молекулярной структуры, что привело к возникновению целой “индустрии” радиационной генетики в 1930-1940-х годах.
Однако экспериментальная практика рентгеновского облучения сама по себе не могла открыть путь к материальному определению генов как единиц наследственности. По случаю пятидесятой годовщины повторного открытия работ Менделя в 1950 году Мюллер был вынужден признаться: “настоящее ядро теории генов все еще, по-видимому, лежит в глубокой неизвестности. То есть у нас еще нет действительного знания механизма, лежащего в основе того уникального свойства, которое делает ген геном — его способности вызывать синтез другой структуры, подобной ему самому, [в] которой копируются даже мутации исходного гена. [Мы] еще не знаем о таких процессах в химии”(Muller 1951, 95-96).
В то же время цитологические исследования также повысили веру в материальность существования генов-на-хромосомах. Вместе с тем, однако, это еще больше усложнило классическое понятие гена.
В 1930-е годы цитогенетик Теофил Пейнтер соотнес формальные закономерности смещения генетических локусов на моргановских хромосомных картах с соответствующими видимыми изменениями в структуре исчерченности гигантских хромосом слюнных желез Drosophila. Барбара Макклинток смогла с помощью микроскопа проследить изменения — транслокации, инверсии и делеции — вызванные рентгеновскими лучами в хромосомах Zea mays (кукурузы). В то же время Альфред Стертевант в экспериментальной работе по эффекту вытянутых глаз (Bar-eye) у Drosophila в конце 1920-х годов показал то, что впоследствии стало называться эффектом позиции: экспрессия мутации зависела от положения, которое соответствующий ген занимал в хромосоме.
Это открытие вызвало широкие дискуссии о том, что Мюллер назвал гетерокаталитическим аспектом гена, а именно о его функциональной связи с экспрессией определенного фенотипического признака. Если функция гена зависела от его положения на хромосоме, тогда можно было поставить под вопрос устойчивость связи функции с этим геном, или, как позже предположил Ричард Гольдшмидт, физиологическая функция была вопросом организации не столько генетического материала в целом, сколько отдельных генов (Goldschmidt 1940; ср. Dietrich 2000 and Richmond 2007).
До сих пор во всех экспериментальных подходах к новой области генетики и предполагаемым ею элементам, генам, ничего не говорилось о двух основных мюллеровских аспектах гена: автокаталитической и гетерокаталитической функции. К концу 1930-х годов Макс Дельбрюк интуитивно понял, что вопрос об автокатализе, то есть репликации, может быть решен путем изучения фагов, то есть вирусов, размножающихся в бактериях. Однако отмечалась, что система фагов, которую он устанавливал на протяжении 1940-х годов, в основном оставалась такой же формальной, как и классическая генетика Drosophila. Сеймур Бензер, например, использовал эту систему полностью “классическим” способом, чтобы увеличить разрешающую способность методов генетического картирования до расстояний в несколько пар нуклеотидов, тем самым подготовив почву для гипотезы секвенирования Фрэнсиса Крика. Интересно, что Бензер пришел к выводу, что “ген” — это “грязное слово”, поскольку предполагаемые молекулярные размеры гена как единицы функции, рекомбинации и мутации явно различались. Поэтому он предложил называть генетические элементы цистронами, реконами и мутонами соответственно (Holmes 2006).
Примерно в то же время Альфред Кюн вместе с группой исследователей, а также Борис Эфрусси с Джорджем Бидлом смогли открыть окно в пространство между геном и его предполагаемой физиологической функцией посредством пересадки органов между насекомыми мутантного и дикого типов. Изучая пигментацию глаз насекомых, они поняли, что гены не порождают физиологические вещества непосредственно, но, очевидно, инициируют то, что Кюн назвал “первичной реакцией”, ведущей к ферментам или энзимам, которые, в свою очередь, катализировали определенные этапы в каскадах метаболических реакций. В 1941 году Кюн суммировал перспективы этого вида, как он ее называл, “эволюционно-физиологической генетики”:
Мы стоим лишь в начале обширной области исследований. [Наше] понимание выражения наследственных признаков меняется от более или менее статичного и преформистского в сторону динамического и эпигенетического. Формальная корреляция отдельных генов, отображенных на определенные локусы хромосом с определенными признаками, имеет лишь ограниченное значение. Каждый шаг в реализации признаков является, так сказать, узлом в сети реакционных цепочек, от которых исходят многие действия генов. Один признак, по-видимому, имеет простую корреляцию с одним геном только до тех пор, пока другие гены той же самой цепи действия и других цепей действия, которые являются частью того же узла, остаются теми же самыми. Только методически проведенный генетический, эволюционный и физиологический анализ большого числа единичных мутаций может постепенно раскрыть движущее действие наследственных предрасположенностей (das Wirkgetriebe der Erbanlagen) (Kühn 1941, 258).
Кюн рассматривал свои эксперименты как начало смены курса в сторону от того, что он воспринимал как новый преформизм генетики наследования (Rheinberger 2000a). Он настаивал на эпигенетике, которая объединила бы генетический, эволюционный и физиологический анализы для определения гетерокатализа, то есть экспрессию гена, видя это как результат взаимодействия двух реакционных цепей. Одна из них ведет от генов к конкретным ферментам, а другая — от одного метаболического промежуточного звена к другому посредством вмешательства этих ферментов, что приводит к сложным эпигенетическим сетям. Однако эксперименты Кюна на протяжении 1940-х годов привели к тому, что он остановился на завершении путей образования пигмента глаза у Ephestia kühniella (огневка мельничная). Он не пытался разработать экспериментальные инструменты для критической атаки на сами генно-ферментные отношения, вовлеченные в этот процесс. По другую сторону Атлантики Джордж Бидл и Эдвард Татум, работая с культурами ‹5›Neurospora crassa , кодифицировали генно-ферментную связь в виде гипотезы “один ген — один фермент”. Однако и для них материальный характер генов - и то, как эти предполагаемые сущности порождали первичные продукты, - оставались неуловимыми и недоступными биохимическому анализу.
Таким образом, к 1940-м годам понятие гена в классической генетике уже далеко отстояло от простого значения, соответствующего простой сущности. Классические генетики, понимая ген как единицу наследственности, рекомбинации, мутации и функции, объединяли различные аспекты наследственных явлений, взаимосвязи которых, как правило, оказывались отнюдь не простыми, взаимно однозначными отношениями.
Однако из-за недостатка знаний о материальной природе гена классическое понятие гена оставалось в значительной степени формальным и операциональным, то есть оно должно было быть косвенно обоснованно успехами, достигнутыми в объяснении и предсказании экспериментальных результатов. Впрочем, несмотря на этот недостаток, все более успешные исследования различных направлений, связанных с классической генетикой, привели к “упрочению” веры в ген как в дискретную материальную сущность (Falk 2000, 323-26).
Понятие гена в молекулярной генетике
Ферментативный взгляд на функцию гена, предложенный, хотя и с осторожной оговоркой, Кюном, Бидлом и Татумом, придал идее генетической специфичности новый поворот и помог проложить путь к молекуляризации гена, которой будет посвящен данный раздел (см. также Kay 1993).
Нечто подобное можно сказать и о находках Освальда Эйвери и его коллег, сделанных в начале 1940-х годов. Они очистили взятую у одного штамма бактерий дезоксирибонуклеиновую кислоту и продемонстрировали, что она способна передавать инфекционные свойства этого штамма другому, безвредному. Однако тот исторический путь, который привел к пониманию природы молекулярного гена, не был прямым продолжением классической генетики (см. Olby 1974 and Morange 2000a). Он скорее встраивался в общую молекуляризацию биологии, вызванную применением недавно разработанных физических и химических методов и инструментов к проблемам биологии, включая проблемы генетики. Среди этих методов были ультрацентрифугирование, рентгеновская кристаллография, электронная микроскопия, электрофорез, макромолекулярное секвенирование и радиоактивное отслеживание. В биологическом плане путь к молекулярному пониманию гена опирался на переход к новым, сравнительно простым модельным организмам, таким как одноклеточные грибы, бактерии, вирусы и фаги. Возникла новая культура физически и химически обученной биологии in vitro, которая во многом перестала опираться на присутствие нетронутых организмов в конкретной экспериментальной системе (Rheinberger 1997; Landecker 2007).
Для развития молекулярной генетики в более узком смысле решающее значение имели три направления экспериментальных исследований. В конце 1940-х они только набирали обороты по отдельности, но после их слияния в начале 1960-х годов стало возможным увидеть грандиозную новую картину знания. Первое из упомянутых направлений развития основывалось на выяснении Фрэнсисом Криком и Джеймсом Д. Уотсоном в 1953 году структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) как макромолекулярной двойной спирали. Эта работа опиралась на химическую информацию о базовом составе молекулы, предоставленную Эрвином Чаргаффом, на данные рентгеновской кристаллографии, собранные Розалиндой Франклин и Морисом Уилкинсом, а также на механическую модель построения, разработанную Лайнусом Полингом. В результате получилась картина двойной цепочки нуклеиновой кислоты, четыре основания которой (аденин, тимин, гуанин, цитозин (Adenine, Thymine, Guanine, Cytosine) образовывали комплементарные пары (A-T, G-C), выстраивающиеся в длинные линейные последовательности во всевозможных комбинациях.
В то же время эта молекулярная модель предлагала элегантный механизм редупликации молекулы. Для создания двух тождественных спиралей из одной достаточно размыкания цепочки и синтеза двух новых нитей, каждая из которых будет комплементарна разделенной. Оказалось, что описанная схема и впрямь соответствует действительности, хотя процесс удвоения стал рассматриваться как полагающийся на сложный молекулярный механизм репликации.
Таким образом, структура двойной спирали ДНК обладала всеми характеристиками, которые можно было ожидать от молекулы, выступающей в качестве автокаталитической наследственной сущности (Chadarevian 2002).
Вторым направлением экспериментов, которое сформировало молекулярную генетику, стало in vitro определение параметров процесса биосинтеза белка, - в него внесли свой вклад многие работающие в сфере биохимии исследователи, в том числе Пол Замечник, Махлон Хогланд, Пол Берг, Фриц Липман, Маршалл Ниренберг и Генрих Маттей. Это направление берёт начало в 1940-х годах в основном как попытка понять, как растут злокачественные опухоли. В 1950-х годах стало очевидно, что для биосинтеза белка требуется матрица РНК, первоначально считавшаяся частью микросом, на которых происходит сборка аминокислот. Кроме того, оказалось, что процесс конденсации аминокислот опосредован молекулой переноса с характеристиками нуклеиновой кислоты и способностью переносить аминокислоту.
Последующая идея — что полученная из одной из нитей ДНК линейная последовательность рибонуклеиновой кислоты направляет синтез линейной последовательности аминокислот или полипептида, и что этот процесс опосредован молекулой-адаптером, — вскоре была подтверждена экспериментально (Rheinberger 1997). Связь между этими двумя классами молекул в конечном счете была установлена: её определял триплетный код нуклеиновой кислоты, который состоял сразу из трех оснований, определявших одну аминокислоту (Kay 2000, ch. 6); отсюда следовала гипотеза последовательности и центральная догма молекулярной биологии, которую Фрэнсис Крик сформулировал в конце 1950-х годов:
В данном контексте информация означает точное определение последовательности, - либо оснований в нуклеиновой кислоте, либо аминокислотных остатков в белке (Crick 1958, 152-153).
После принятия этих двух фундаментальных допущений о себе начал заявлять новый подход к биологической специфичности. Центральными для него были передача молекулярного порядка от одной макромолекулы к другой. В одной молекуле порядок сохраняется структурно; в другой – становится выраженным (expressed) и обеспечивает основу для биологической функции. Этот процесс передачи был охарактеризован как молекулярная передача информации. Тем самым гены стало возможным рассматривать как участки дезоксирибонуклеиновой кислоты (или рибонуклеиновой кислоты в некоторых вирусах), несущие информацию для сборки определенного белка. Таким образом, обе молекулы считались коллинеарными, и для многих бактериальных генов это действительно оказалось так. В конце концов, оба фундаментальных свойства, которыми, по мнению Мюллера, должны были обладать гены, – автокатализ и гетерокатализ, – были сочтены опирающимися на один и тот же стереохимический принцип. Соответственно, базовая комплементарность между строительными блоками нуклеиновых кислот C/G и A/T (U – Урацил – в случае РНК) обеспечивала как точное дублирование генетической информации в процессе репликации, так и, через генетический код, преобразование генетической информации в биологическую функцию посредством транскрипции в РНК и трансляции в белки.
Код оказался почти универсальным для всех классов живых существ, вместе с механизмами транскрипции и трансляции. Таким образом, понятие генотипа получило новое истолкование, став обозначать универсальное хранилище генетической информации, иногда также называемое генетической программой. Разговоры о ДНК как о воплощении генетической “информации”, как о “чертеже жизни”, которые до сих пор доминируют в повседневной речи, возникли в результате своеобразного соединения физических и биологических наук во время Второй мировой войны, – источником вдохновения для них послужили книга Эрвина Шредингера Что такое жизнь? (Шрёдингер 2018), а также кибернетика как ведущая на тот момент дисциплина в изучении сложных систем. Следует, однако, подчеркнуть, что первоначальные попытки “взломать” код ДНК чисто криптографическими средствами вскоре зашли в тупик. Наконец, с помощью передовых инструментов своей дисциплины генетический код разгадали именно биохимики (Judson 1996; Kay 2000).
Для дальнейшего развития понятия ДНК как “программы” мы должны рассмотреть дополнительное, третье направление экспериментов, помимо выяснения структуры ДНК и механизмов синтеза белка. Это направление возникло в результате слияния бактериальной генетики с биохимическим определением параметров индуцируемой системы ферментов метаболизма сахара. В значительной степени благодаря работам Франсуа Жакоба и Жака Моно в начале 1960-х годов информационная РНК была идентифицирована как посредник между генами и белками, а также была описана регуляторная модель активации генов, так называемая оперонная модель, в которой выделялись два класса генов. Первый класс — это структурные гены. Предполагалось, что они несут “структурную информацию” для производства определенных полипептидов. Другой класс — это регуляторные гены. Предполагалось, что они участвуют в регуляции экспрессии структурной информации (в последнее время это различие стало оспариваться, см. детали дискуссии в работе Piro 2011). Третьим элементом ДНК, вовлеченным в регуляторную петлю оперона, был связывающий участок, или сигнальная последовательность, которая вообще не транскрибировалась.
Эти три элемента — структурные гены, регуляторные гены и сигнальные последовательности — создали основу для рассмотрения самого генотипа как упорядоченной иерархической системы, как “генетической программы”, о чем утверждал Жакоб, сразу же добавляя, что это очень своеобразная программа, которая нуждается в своих собственных продуктах для выполнения: “Существует только непрерывное выполнение программы, неотделимое от ее реализации. Ибо единственные элементы, способные интерпретировать генетическую информацию, являются продуктами этой информации” (Jacob 1976, 297). Если мы отнесемся к этой точке зрения серьезно, то, хотя вся концепция выглядит замкнутой и за эту черту была подвергнута критике (Keller 2000), именно организм интерпретирует или “рекрутирует” структурные гены, активируя или ингибируя регуляторные гены, контролирующие их экспрессию.
Оперонная модель Жакоба и Моно ознаменовала, таким образом, стремительный конец простого, информационного понятия молекулярного гена. С начала 1960-х годов картина экспрессии генов значительно усложнилась (для сравнения: Rheinberger 2000b). Более того, большинство геномов высших организмов, по-видимому, содержат огромные участки ДНК, которым пока не может быть присвоена никакая функция. Выросло число “некодирующих”, но функционально специфических регуляторных элементов ДНК: промоторные и терминирующие последовательности; до- и после- (upstream and downstream‹6›) активирующие элементы в транскрибируемых или нетранскрибируемых, транслируемых или нетранслируемых областях; лидерные последовательности; внешне и внутренне транскрибирущиеся спейсеры до, между и после структурных генов; вкрапленные повторяющиеся элементы и тандемно повторяющиеся последовательности, такие как спутники, LINEs (Длинные Диспергированные Повторы) и SINEs (Короткие Диспергированные Повторы) различных классов и размеров. Учитывая всё сбивающее с толку многообразие и детали перечисленных элементов, неудивительно, что их молекулярные функции все еще далеки от полного понимания (обзор см. Fischer 1995).
Что касается транскрипции, - то есть синтеза копии РНК из последовательности ДНК, - в посвящённых ей исследованиях были обнаружены перекрывающиеся рамки считывания на одной и той же нити ДНК, и было установлено, что участки кодирования белка перекрывающимся образом берут начало на обеих нитях двойной спирали. На уровне модификации после транскрипции картина стала не менее сложной. Уже в 1960-х годах стало ясно, что транскрипты ДНК, - такие как трансферная РНК и рибосомная РНК, - должны обрезаться и созревать сложным ферментативным способом, чтобы стать функциональными молекулами. Кроме того, прежде чем войти в механизм трансляции, информационные РНК эукариот подвергаются обширной посттранскрипционной модификации как на их 5'-концах (кэппирование), так и на их 3'-концах (полиаденилирование‹7›) . Ко всеобщему удивлению, в 1970-х годах, Филлип Аллен Шарп и Ричард Робертс независимо друг от друга обнаружили, что эукариотические гены состоят из модулей и что после транскрипции интроны вырезаются, а экзоны соединяются, чтобы получить функциональную информацию.
Сплайсированный мессенджер иногда может составить всего лишь десять процентов или меньше от первичного транскрипта. С конца 1970-х годов молекулярные биологи познакомились с различными видами сплайсинга РНК: автокаталитическим самосплайсингом, альтернативным сплайсингом (одного транскрипта для получения различных сообщений) и даже транссплайсингом (различных первичных транскриптов для получения одного гибридного сообщения). Возьмём хотя бы один пример: в случае гормона, регулирующего откладывание яиц (egg-laying hormone) у морского зайца Aplysia, один и тот же участок ДНК дает начало одиннадцати белковым продуктам, участвующим в репродуктивном поведении данной улитки. Наконец, был обнаружен еще один механизм - или, скорее, класс механизмов, действующих на уровне транскриптов РНК. Он называется редактированием информационной РНК. В этом случае — который, между прочим, оказался не просто экзотическим курьезом некоторых трипаносом — исходный транскрипт не только вырезается и вставляется, но его нуклеотидная последовательность также систематически изменяется после транскрипции. Замена нуклеотидов происходит до начала трансляции и опосредуется различными направляющими РНК и ферментами, которые различными способами вырезают старые и вставляют новые нуклеотиды. В результате их воздействий получается продукт, более не комплементарный участку ДНК, из которого он был первоначально получен, и белок, который больше не является коллинеарным последовательности ДНК в классическом молекулярно-биологическом смысле.
Осложнения с молекулярно-биологическим геном продолжаются и на уровне трансляции, то есть синтеза полипептида в соответствии с последовательностью триплетов молекулы мРНК. Были сделаны такие открытия, как инициации трансляции в разных инициирующих кодонах на одной и той же мессенджерной РНК; случаи обязательного сдвига фреймов внутри конкретного сообщения (причём без сдвига получается нефункциональный полипептид); и такая посттрансляционная модификация белка, как удаление аминокислот с азотистого конца транслированного полипептида. Также имеет место и наблюдение процесса, называемого сплайсингом белков, о котором сообщалось с начала 1990-х годов. В этом случае одни части исходного продукта трансляции должны выделяться (интеины), а другие — соединяться (экстеины) до получения функционального белка. Наконец, одно из недавних открытий в области трансляции заключается в том, что рибосома может управлять трансляцией двух различных информационных РНК в один полипептид. После многих лет работы в молекулярной биологии Франсуа Гро пришел к довольно парадоксальному выводу, что, ввиду описанной выше озадачивающей сложности “взорванный ген” (le gène éclaté) если вообще может быть определен, то только через “продукты, являющиеся результатом его активности”, то есть порождёнными им функциональными молекулами (Gros 1991, 297). Однако, если вдуматься, этому совету Гро об обратном определении гена трудно следовать, поскольку тогда фенотип определял бы генотип.
Самые недавние дебаты, касающиеся структуры и функции генома, были сосредоточены вокруг проекта “Энциклопедия элементов ДНК” (ENCODE). Целью проекта было выявление всех функциональных элементов в геноме человека. Исходя из полученных результатов работы этого консорциума, уже известные отк¬лонения от классической модели молекулярного гена (понимаемой как непрерывной области кодирования белка, окруженной регуляторными областями) являются скорее правилом, нежели исключением. Участники ENCODE в большом количестве обнаружили перекрывания транскриптов, продукты, полученные из широко разнесенных фрагментов последовательности ДНК и широко рассеянных регуляторных последовательностей конкретного гена. Полученные результаты также подтверждают, что большая часть генома транскрибируется, и подчеркивают значимость и распространенность функциональных, не кодирующих белок транскриптов РНК; эти результаты появились в течение последнего десятилетия и предполагают “обширный скрытый слой регуляторных транзакций РНК” (Mattick 2007).
В свете сделанных выводов было предложено определение гена, согласно которому
Такие определения в основном служат для решения проблемы аннотации (Baetu 2012), которая становится особенно важной в контексте возрастающего значения биоинформатики и использования баз данных, требующих согласованной онтологии (Leonelli 2008). Более спорным является используемое в проекте понятие функции. Согласно консорциуму ENCODE, их данные позволили “приписать биохимические функции 80% генома” (ENCODE Project Consortium 2012, 57), несмотря на то, что по консервативным оценкам только 3-8% оснований находятся под действием очищающего отбора (purifying selection), который обычно используется для указания на функцию геномной последовательности. Критики утверждают, что этиологическое понятие функции, согласно которому функция является отобранным эффектом (selected effect), более уместно в контексте функциональной геномики (Doolittle et al. 2014); в свою очередь, другие учёные утверждают, что релевантным может быть любой вид причинно-следственной роли нити ДНК, особенно в биомедицинских исследованиях (см. философский подход к обсуждению данной темы у Germain et al. 2014). Как мы уже отмечали, говоря о перипетиях в истории понятия гена, описываемые достижения были вызваны технологическими прорывами, в частности, в области глубокого секвенирования РНК и определения взаимодействий между белками и ДНК.
В заключение можно повторить вслед за Фальком (Falk 2000, 327), что, с одной стороны, некогда приписываемое гену как элементарной единице свойство автокаталитичности было перенесено на ДНК в целом. Репликацию уже нельзя считать специфической особенностью гена как такового. Ведь процесс репликации ДНК не ограничен границами кодирующих областей. С другой стороны, как отмечали многие наблюдатели (Kitcher 1982; Gros 1991; Morange 2001; Portin 1993; Fogle 2000), становится все труднее определить четкие свойства гена и как функциональной единицы с гетерокаталитическими свойствами. Ответы на вопрос, какие элементы последовательности должны включаться в функциональную характеристику гена, а какие — исключаться из неё, стали просто выбором, ограниченным лишь контекстом задачи. Вот почему некоторые из исследователей поддерживают плюралистическую установку относительно различных понятий гена. (Burian 2004).
Данная ситуация вызвала различные реакции. Ученые, например Томас Фогл и Мишель Моранж, признают: у нас больше нет точного определения того, что считается геном. Однако они не слишком беспокоятся об этой утрате и продолжают говорить о генах в плюралистически, контекстуально и прагматически определяемой манере (Fogle 1990, 2000; Morange 2000b). Элоф Карлсон и Петтер Портин также пришли к выводу, что существующее на сегодняшний день понятие гена является абстрактным, общим и открытым, несмотря на то, что — или только потому, что – нынешние знания о структуре и организации генетического материала стали настолько всеобъемлющими и детальными.
Но, как и Ричард Буриан (Burian 1985), эти авторы воспринимают открытые понятия с большим смысловым потенциалом не только как недостаток, с которым нужно смириться, но и как потенциально продуктивный научный инструмент. Такие понятия предлагают варианты и оставляют выбор открытым (Carlson 1991, Portin 1993). Философ Филип Китчер, принявший к сведению следствия из всех молекулярных детализаций понятия гена, уже около 25 лет назад пел дифирамбы “гетерогенному референтному потенциалу” гена и пришел к ультралиберальному выводу, что “молекулярной биологии гена не существует. Существует только молекулярная биология генетического материала” (Kitcher 1982, 357).
Процесс репликации - то есть трансмиссионный аспект генетики как таковой, - оказался сложным молекулярным процессом, чья изменчивость отнюдь не ограничивается перетасовкой генов во время мейотической рекомбинации: она выступает источником для эволюции и управляется очень сложным молекулярной машинерией, включающей в себя полимеразы, гиразы, ДНК-связывающие белки, механизмы восстановления и многое другое.
Таким образом, как выразился Питер Бертон, геномные различия, на которые нацелен отбор, могут, но не должны “разделяться на гены” в ходе эволюции (Beurton 2000, 303).
С другой стороны, некоторые считают гетерокаталитическую изменчивость гена аргументом в пользу рассмотрения генетического материала в целом, - а, следовательно, и генов, - уже не как фундаментальных единиц в своем праве, а скорее как ресурса развития [живого организма], который необходимо контекстуализировать. Они утверждают, что пришло время если не растворить целиком, то, по крайней мере, укоренить генетику в сфере явлений развития, и даже — как предлагает Джеймс Гриземер (Griesemer 2000) — сами явления развития в области воспроизводства; поступив таким образом, мы продолжим движение оттуда, где более полувека назад остановились Кюн и другие исследователи.
Соответственно, Мосс определяет “ген-D” (аналогично упомянутому ранее и определенному через фенотип гену-P) как “ресурс развития (developmental resource, поэтому D), который сам по себе неопределен по отношению к фенотипу.
Быть геном-D означает быть транскрипционной единицей на хромосоме, внутри которой содержатся молекулярные матричные ресурсы” (Moss 2003, 46; cf. Moss 2008).
Согласно приведённой точке зрения, такие генные шаблоны представляют собой лишь один источник, на который опирается процесс развития, и лишаются онтологической привилегии считаться наследственными молекулами.
Благодаря молекулярной биологии классический ген “стал молекулярным” (Waters 1994). По иронии судьбы, из-за этого исчезла первоначальная идея генов как простых участков ДНК, кодирующих белок. Как только ген классической генетики благодаря молекулярной биологии обрел материальную структуру, в большом числе появились и биохимические, и физиологические механизмы, объяснявшие его передачу и экспрессию. Развитие самой молекулярной биологии — предприятие, которое так часто описывается как совершенно редукционистское — сделало невозможным мысль о геноме как о простом наборе кусочков смежной ДНК, коллинеарных с полученными из него белками.
В начале XXI века, когда результаты проекта “Геном человека” были своевременно представлены к пятидесятой годовщине открытия двойной спирали ДНК, молекулярная генетика, по-видимому, совершила полный круг, начав рассматривать воспроизводство и наследование уже не с чисто генетической, а с эволюционной точки зрения и из перспективы развития.
В то же время, в течение XX века ген стал центральной категорией в медицине (Lindee 2005) и теперь, в постгеномную эпоху, преобладает в дискурсах здоровья и болезни (Rose 2007).
Ген в эволюции и развитии
Одним из наиболее впечатляющих событий в истории биологии XX века как дисциплины, вызванных подъемом генетики (в частности, математической популяционной генетики), стало формирование так называемой “синтетической теории эволюции”. В целом ряде учебников, изданных такими эволюционными биологами, как Феодосий Добжанский, Эрнст Майр и Джулиан С. Хаксли, результаты популяционной генетики использовались для восстановления дарвиновской, селекционной эволюции.
После “затмения дарвинизма”, воцарившегося около 1900 года (Bowler 1983), неодарвинизм вновь обеспечил объединяющую и объяснительную основу биологии, позволив также включить более описательные, натуралистические дисциплины, такие как систематика, биогеография и палеонтология (Provine 1971; Mayr & Provine 1980; Smocoovitis 1996).
Скотт Гилберт (Gilbert 2000) выделил шесть аспектов понятия гена в том виде, в каком оно использовалось в популяционной генетике вплоть до синтетической теории эволюции.
- Во-первых, он был абстракцией, сущностью, которая должна выполнять формальные требования, но которая не нуждалась в материальной определённости и не обладала ей.
- Во-вторых, эволюционный ген должен приводить к или коррелировать с некоторыми фенотипическими различиями, которые могут быть “замечены” или отобраны отбором.
- В-третьих, и по той же причине, ген эволюционного синтеза — это сущность, которая в конечном счете отвечает за отбор, происходящий и продолжающийся в течение нескольких поколений.
- В-четвертых, ген эволюционного синтеза был в значительной степени приравнен к тому, что молекулярные биологи стали называть “структурными генами”.
- В-пятых — речь шла о гене, экспрессирующемся в организме, конкурирующем за репродуктивное преимущество.
И, наконец, он рассматривался как во многом независимая единица. Ричард Докинз довел этот последний аргумент до крайности, определив ген как “эгоистичный” репликатор со своей собственной жизнью, конкурирующий с другими генами и использующий организм как инструмент для своего собственного выживания (Докинз 2013 [1976]; ср. Sterelny and Kitcher 1988).
Эвелин Фокс Келлер говорит о “реактивных геномах” (Keller 2014). Мало того, что охарактеризованные МакКлинтоком более полувека назад подвижные генетические элементы у Zea mays получили распространение в виде транспозонов, - которые могут как регулярно, так и нерегулярно вырезаться и вставляться во все бактериальные и эукариотические геномы, - существуют также и другие формы перетасовок, которые происходят на уровне ДНК. К примеру, в организации иммунного ответа вовлечён гигантский объём починок (tinkering) соматических генов и сплайсинга ДНК. Это приводит к образованию вариаций различных антител, исчисляющихся миллионами. Ни один геном не был бы достаточно большим, чтобы справиться с подобной задачей, если бы в ходе эволюции не было изобретено разделение генов и сложная перестановка их частей. Генные семейства возникли с течением времени в результате удвоений, содержащих гены с подавленной экспрессией (иногда называемые псевдогенами).
Сами гены, по-видимому, в значительной степени возникли из модулей путем комбинации. Мы находим “прыгающие гены” (транспозоны) и множество генов одного вида, кодирующих различные изоформы конкретного белка. Короче говоря, по-видимому, существует целый набор механизмов и сущностей, составляющих то, что было названо “наследственным дыханием” (Gros 1991, 337).
Молекулярно-эволюционные биологи пока лишь в начале пути и только-только начали понимать этот гибкий генетический аппарат, хотя Жакоб более тридцати лет назад уже выдвигал взгляд на геном как на динамическую совокупность наследственно повторяемых и проходящих починку (tinkering) частей (Jacob 1977). Секвенирование генома в сочетании с интеллектуальным сравнением данных о последовательностях в настоящее время позволяет выявлять все больше и больше деталей этой структуры (об истории соответствующих разработок см. García-Sancho 2012; о биологии, основанной на данных, см. Stevens 2013). Одним из удивительных результатов проекта “Геном человека” стало то, что наш геном состоит из всего лишь 21 000 генов.
Если у нас есть шанс понять эволюцию за пределами классического, в значительной степени формального, эволюционного синтеза, то именно с таких позиций можно узнать больше о геноме как динамической и модульной конфигурации.
Предполагаемые элементарные события, на основе которых функционирует сложный механизм экспрессии и воспроизведения генома, - такие как точечные мутации, делеции нуклеотидов, добавления и олигонуклеотидные инверсии, - больше не являются единственными элементами эволюционного процесса: скорее, они – одни из компонентов в гораздо более широком арсенале ДНК-манипуляций.
На основе полученных результатов Бертон делает вывод, что ген следует рассматривать не столько как единицу эволюции, сколько как ее поздний продукт: конечный результат долгой истории геномной конденсации (Beurton 2000). Другие исследователи утверждают, что геномный анализ связан не с изучением генов как функционально или структурно определенных единиц, а с “выявлением причинно-следственных связей между частями генома и молекулярными продуктами и идентификацией отличающихся” (Perini 2011).
Наконец, в последние годы наблюдается неуклонное увеличение числа свидетельств в пользу эпигенетических систем наследования (Jablonka and Raz 2009, см. также статью о системах наследования).
Развитие этих взглядов не только позиционировалось как революция в молекулярной биологии, определяющая постгеномную эру (в работе Meloni and Testa 2014 обсуждается социология «пузыря надежд» и ожиданий в этом отношении): оно также привело к еще одному изменению в понятии гена – последний больше не может рассматриваться ни как исключительная единица наследования и отбора, ни как первопричина явлений развития.
В то время как, в более общем смысле, “эпигенетика” относится к процессам клеточной детерминации и дифференцировки — так называемым “эпигенетическим системам управления”, — эпигенетическое наследование “происходит, когда не вытекающие из вариаций в базовых последовательностях ДНК фенотипические вариации, передаются последующим поколениям клеток или организмов” (Jablonka and Raz 2009, 132).
Хотя в эту категорию могут входить развитие взаимодействия между матерью и потомством, социальное обучение, символическая коммуникация, существует также более узкое понятие клеточного эпигенетического наследования. Оно обозначает “передачу от материнской клетки к дочерней клетке вариаций, которые не являются результатом различий в последовательности оснований ДНК и/или в наличной окружающей среде” (Jablonka and Raz 2009, 132).
Обсуждаемые в научной литературе клеточные эпигенетические системы наследования включают передачу меток хроматина, особенно метилирование ДНК, и РНК, наследование белковых конформаций (таких как прионы), а также самоподдерживающиеся петли и наследование хроматина у бактерий. Когда речь идёт о многоклеточных организмах, первый тип механизмов особенно удачно позволяет объяснить, как дифференцированные клетки дают начало идентичным дочерним клеткам, даже если инициировавший дифференцировку сигнал исчез.
Однако более важным для концепции наследственности является клеточное транспоколенное эпигенетическое наследование. В таких случаях “окружающая среда может индуцировать эпигенетические изменения, непосредственно воздействуя на зародышевый путь или воздействуя на зародышевые клетки посредством сомы‹8› , но в любом случае последующая передача происходит через зародышевый путь” (Jablonka and Raz 2009, 133).
Как выразились Мелони и Теста, приведённое утверждение недвусмысленно подразумевает, что “эпигенетическое тело привело к концу дела Вейсмана‹9› (Weismannian body) ”, (Meloni and Testa 2014, 19). Эпигенетическая изменчивость может оказать фенотипические эффекты в подвергнутом воздействию стимула поколении или в его потомстве, причём эти эффекты могут сохраняться в течение нескольких поколений. Подобная возможность открыла новую область взаимодействия между биологией и социальными науками, так как факторы окружающей человека среды, - от воздействия токсичных соединений до питания и образования, - могут иметь эпигенетические эффекты, охватывающие несколько поколений. Идиома эпигенетики служит для очередной биологизации социальных и этнических различий, а также переопределяет как индивидуальную уязвимость, так и ответственность – включая межпоколенную ответственность – в отношении влияния образа жизни на здоровье и болезни (Meloni and Testa 2014).
Кроме того, обращение к эпигенетическому наследованию как в широком, так и в узком смысле имеет значительные последствия для понимания эволюции и развития (Jablonka & Lamb 2005). С одной стороны, в сочетании с идеей генетической ассимиляции (Waddington 1957), - согласно которой гены отбираются для фиксации предыдущей адаптивной, но негенетической вариации, - эпигенетическое наследование помогает объяснить, как именно адаптивные фенотипические реакции становятся генетически закрепленными, предлагая неоламаркистские взгляды на эволюцию (West-Eberhard 2003). С другой стороны, исследование эпигенетических механизмов ставит под сомнение причинное или информационное первенство генов или ДНК. В результате генетические элементы рассматриваются наравне с другими ресурсами развития, необходимыми для формирования фенотипического признака. С этой точки зрения “гены” предстают как процессы, приводящие к фенотипическим результатам, включающим большое количество и других ресурсов наряду с ДНК (Griffiths and Neumann-Held 1999).
Данная позиция защищается в трудах по Теории систем развития (Oyama et al., 2001; Neumann-Held and Rehmann-Sutter, 2006), хотя она подверглась нападкам со стороны ряда философов, по мнению которых эта позиция не предлагает ничего, “что будущие исследователи могли бы применить на практике” (Kitcher, 2001, 408; ср. Hall 2001). И, как отмечали Мелони и Теста, в то время как эпигенетика противостоит гено-центричному редукционизму, она приводит к уменьшению влияния окружающей среды на молекулярных агентов. Когда ученые сегодня говорят об экспосоме, суффикс ‐ома действительно должен отражать “оцифровку всех форм воздействия окружающей среды, от материнской любви до токсинов, от пищи до классового неравенства, в единую объединяющую категорию и синтаксис” (Meloni and Testa 2014, 18).
Мы прошли долгий путь в молекулярной биологии, от генов к геномам, а от них – к системам развития. Однако есть и куда более длинный путь – от геномов к организмам. Понятый через призму биологии развития ген обрел свои контуры в течение последних двадцати лет благодаря ранним работам Эда Льюиса и Антонио Гарсиа-Беллидо, а также поздним работам Вальтера Геринга, Кристианы Нюслейн-Вольхард, Эрика Вишауса, Питера Грусса, Дениса Дюбуля и других авторов; разработка такого понимания гена, возможно, позволяет нам сделать шаг вперед на пути [от геномов к организмам].
Как утверждает Гилберт (Gilbert 2000), он – точная копия гена синтетической теории эволюционного. Но мы должны быть здесь более конкретными и обратить внимание на то, что было названо “генами развития” в собственном смысле. Как оказалось, во многом из-за исчерпывающего использования мутационного насыщения и технологий генной инженерии фундаментальные процессы развития, – такие как сегментация или формирование глаз у столь различных организмов, как насекомые и млекопитающие, – находятся под решающим влиянием активации и ингибирования класса регуляторных генов, в некоторой степени напоминающих регуляторные гены оперонной модели. Однако в отличие от этих давно известных регуляторных генов (чья функция основана на способности обратимо включаться и выключаться в соответствии с требованиями реальных метаболических и экологических ситуаций), гены развития инициируют необратимые процессы. Они кодируют так называемые транскрипционные факторы, которые могут связываться с контрольными участками ДНК и тем самым образом влиять на скорость транскрипции конкретного гена или целого набора генов на определенной стадии развития. Среди них есть и то, что можно назвать генами развития второго порядка, которые, по-видимому, контролируют и модулируют единицы, отбираемые генами развития первого порядка.
Эти второпорядковые гены действуют как подлинный “главный переключатель”; оказалось также, что они практически не изменяются в ходе эволюции. Их примером может служить член семейства pax-генов, способный включить целостный сложный процесс формирования глаз у насекомых и позвоночных.
Самое удивительное, что выделенный из мыши гомологичный ген может заменить ген, присутствующий у дрозофилы, и, когда его помещают в плодовую муху, включается не образование глаз млекопитающих, а образование глаз насекомых. Считается, что многие из этих генов или семейств генов, таких как гомеобокс-семейство ‹10›, участвуют в формировании как пространственного паттерна во время эмбриогенеза, так и временного паттерна.
Моранж (Morange 2000b) выделяет два центральных “твердых факта”, которые можно получить из этой на самом деле крайне неясной и спорной области исследований.
Во-первых, регуляторные гены, - если судить по часто радикальным эффектам, возникающим в результате их инактивации, - по-видимому, играют центральную роль в развитии.
Во-вторых, оказывается, что не только отдельные гомеотические гены сохранялись у отдаленно родственных организмах, но и что они имеют тенденцию входить в комплексы, которые сами структурно сохранялись в течение эволюции, чем вновь свидетельствуют в пользу геномных структурах более высокого порядка. Другой класс таких высоко консервативных генов и генных комплексов участвует в формировании компонентов путей, осуществляющих внутриклеточную и межклеточную сигнализацию. Эти процессы имеют очевидное значение для клеточной дифференцировки и эмбрионального развития многоклеточных организмов.
Распространение использования технологии целенаправленного нокаута генов преподнесло ряд больших сюрпризов: один из них состоит в том, что считавшиеся незаменимыми для определенной функции гены при нокауте не меняли - или, по крайней мере, существенно не меняли - работу организмов. Это заставило молекулярных биологов развития осознать, что “сети развития”, по-видимому, во многом избыточны и что некоторые их части могут в конечном итоге компенсировать недостающие (Mitchell 2009, Ch. 4). Очевидно, что эти сети обладают высокой буферизацией, а потому во многом устойчивы к изменению внешних и внутренних условий. Безусловно, генные продукты вовлечены в эти сети и их сложные функции, но эти функции никоим образом не определяются одними лишь генами. Другой результат, полученный в результате исследований экспрессии эмбриональных генов с использованием недавно разработанных чиповых технологий, заключался в том, что один и тот же генетический продукт может экспрессироваться на разных стадиях развития и в разных тканях; кроме того, он может вовлекаться в совершенно разные метаболические и клеточные функции. Отметим ещё раз, что описываемая многофункциональность генов может помочь переосмыслить, что такое генетическая и биологическая детерминации (см. также обсуждение биологического детерминизма в статье о феминистской философии биологии).
Эти недавние результаты всерьёз ставят под сомнение дальнейшую применимость обсуждений прямолинейного понятия “гена-для‹11›” . Открытие генов развития проливает свет и на то, что геном в целом организован как динамичная, модульная и устойчивая сущность. В отличие от фрагментов ДНК с детерминированной функцией, - как это первоначально предполагалось молекулярной генетикой, - гены развития представляются высоко консервативными в эволюционном отношении, но крайне изменчивыми и избыточными в функциональном. Скорее, они похожи на молекулярные строительные блоки, с которыми эволюция возится при создании организмов — или с которыми организмы возятся в ходе эволюции. В последние годы эволюционные теории пришли к признанию этой активной роли организма в использовании и даже формировании высоко консервативных генетических механизмов (West-Eberhard 2003; Kirschner & Gerhart 2005).
Вопрос редукции
Как мы утверждали в предыдущих разделах, история генетики XX века характеризуется распространением методов индивидуации генетических компонентов и, соответственно, распространением описаний генов. Эти описания в значительной степени оказываются зависимыми от развития технологий. Важнейшие изменения в теории были следствием экспериментальных прорывов, а не предшествовали им. Контраст между «классическим» и «молекулярным» геном (последний хронологически следует за первым) особенно заострил вопрос о том, как эти альтернативные теории соотносятся семантически, онтологически и эпистемологически. Понимание этой взаимосвязи могло бы дать возможность внести некоторый порядок в ошеломляющее разнообразие значений, заложенных в понятие гена на протяжении целого столетия.
В ставшей уже классической работе Кеннет Шаффнер утверждал, что молекулярная биология — в частности, модель ДНК Уотсона-Крика — привела к сведению законов (классической) генетики к законам физики и химии (Schaffner 1969, 342).
Согласно Шаффнеру, успехи молекулярной биологии в выявлении ДНК в качестве генетического материала - такие, как открытие Уотсоном и Криком структуры ДНК или эксперимент Мезельсона-Шталя, - предоставляют эмпирическую основу, для «функций редукции, участвующих в редукцию биологии следующим образом: ген1 = последовательность ДНК1.» Идея Шаффнера была подвергнута жесткой критике Дэвидом Халлом, отметившим, что отношения между менделеевскими и молекулярными терминами являются отношениями “ многих-ко-многим ”, а не “ один-к-одному ” или “ многих-к-одному ”, как предполагал Шаффнер, поскольку «явления, характеризуемые одним менделеевским предикативным термином, могут быть воспроизведены несколькими типами молекулярных механизмов [... и] наоборот, один и тот же тип молекулярного механизма может производить явления, которые должны быть охарактеризованы различными менделеевскими предикативными терминами» (Hull 1974, 39). «Чтобы преобразовать эти отношения многих-ко-многим, — заключил Халл, — в требуемые отношения “один-к-одному” или “многих-к-одному”, ведущие от молекулярных понятий к понятиям менделевской генетики, последняя должна быть подвергнута широкомасштабной модификации. Отсюда вытекают две проблемы — обоснование для обозначения этих модификаций как “коррекций”, а также переход от менделевской к молекулярной генетике, являющийся “редукцией”, а не “заменой”» (Hull 1974, 43).
Для того, чтобы объяснить эту трудность и согласовать её с интуицией (которую разделял Халл), что должен быть хоть какой-нибудь уместный способ говорить о редукции классической генетики до молекулярной, Александр Розенберг использовал понятие супервентности (придуманное Дональдом Дэвидсоном и восходящее к Джорджу Эдварду Муру) для описания отношения классической и молекулярной генетики.
Супервентность подразумевает, что любые два элемента, обладающие одинаковыми свойствами в молекулярных терминах, также обладают одинаковыми свойствами в менделевских терминах, но из этого не следует, что законы Менделя обязательно должны быть выводимы из законов биохимии (Rosenberg 1978). Предложенная идея напоминает способ, которым классические генетики связывали различия генов и различия признаков в понятии дифференциированного гена: различия признаков в нём использовались в качестве маркеров генетических различий, но из этого не следовала выводимость динамики развития признака, - в частности, доминирование или рецессивность - из законов Менделя (Schwartz 2000; Falk 2001). Интересно, что Кеннет Уотерс полемизировал по данному вопросу, - в том числе против позиции Халла, - утверждая, что выявлення молекулярной генетикой сложность была всего лишь той сложностью, которую уже постулировали, пусть и абстрактно, классические генетики (Waters 1994, 2000). Хотя отношения между молекулярной и классической генетикой оказались не дедуктивными, они все же существуют и связывают эти две области эпистемически продуктивным способами для каждого отдельно взятого случая (Kitcher 1984; Schaffner 1993; Darden 2005; Weber 2007).
Между тем научная литература по генетике и редукционизму стала столь же разнообразной и сложной, как и освещаемая ей область научной деятельности. В своей книге, посвященной критическому анализу подобных работ, Сахотра Саркар сделал интересный шаг, выделив 5 различных концепций редукции, 3 из которых он считает особенно важными для генетики: “слабая редукция”, примером которой является понятие наследуемости; “абстрактная иерархическая редукция”, примером которой является классическая генетика; и “приблизительная сильная редукция”, примером которой является использование “информационного”объяснения в молекулярной генетике.
Может быть, не столь удивительный результат исследования Саркара состоит в том, что “редукция — в ее различных типах — представляет научный интерес за пределами, главным образом, сферы формальных интересов большинства философов наук”, поскольку она представляет собой “ценную, иногда захватывающую, а иногда и незаменимую стратегию в науке” и поэтому должна в конечном счете быть признана “связанной с актуальной практикой генетики” (Sarkar 1998, 190). В том же духе Жан Гайон изложил “философскую схему” истории генетики: в ней феноменализм, инструментализм и реализм рассматриваются не как альтернативные системы, между которыми философы должны делать выбор, а как реальные, исторически последовательные стратегии, используемые генетиками в их работе (Gayon 2000).
Наконец, мы бы хотели вкратце остановиться на двух вопросах, связанных с проблемой редукции и неоднократно обсуждавшихся в философских трудах. Первый пункт касается понятия “информация” в молекулярной генетике. Использование в ранний период молекулярного осмысления гена терминов “генетическая информация” и “генетическая программа” было инфляционным по сути: оно широко критиковалось как философами, так и историками науки (Sarkar 1996, Kay 2000, Keller 2001). Не кто иной, как Гюнтер Стент, один из самых твердых сторонников так называемой “информационной школы” молекулярной биологии, давно предупреждал: разговоры о “генетической информации” лучше всего ограничивать ее явным и объяснимым значением спецификации последовательности. Иными словами, лучше всего держать ее в локальных рамках “кодирования” вместо того, чтобы масштабировать ее до глобальных разговоров о генетическом “программировании”. “Само собой разумеется, - утверждает он, — что принципы химического катализа [фермента] не представлены в последовательностях нуклеотидных оснований ДНК” и делает следующий вывод:
В конце концов, нет такого аспекта фенома, относительно которого нельзя было бы сказать, что гены не внесли свой вклад в его определение. Соответственно, оказывается, что понятие генетической информации, в период расцвета молекулярной биологии обладавшее столь большим эвристическим значением для разгадки структуры и функции генов, - то есть явного значения этой информации, - уже не столь полезно в поздний период, когда остающиеся без объяснения эпигенетические отношения представляют собой в основном неявное значение этой информации (Stent 1977, 137).
На наш взгляд, тем не менее, следует помнить о молекулярно-биологическом понятии потока информации, сочетающем в себе два смысла: как хранение, так и экспрессию во взаимодействии между двумя классами макромолекул. Его использование привнесло новое измерение в разговор о живых системах, помогая отличать конкретно их от химических и физических систем – последние характеризуются исключительно потоками материи и потоками энергии (Crick 1958; Maynard Smith 2000). Молекулярная биология, рассматриваемая многими историками и философами биологии как образец редукционизма, не только ввела физику и химию в биологию, но и свела последние к первой. Парадоксально, но достижения молекулярной биологии также помогли найти новый способ понимания организмов в принципиально нередуктивном ключе. В более широком понимании это подразумевает “эпигенетические” механизмы внутриклеточной и межклеточной молекулярной сигнализации и коммуникации, в которые встроена генетическая информация и ее отличительная экспрессия и через которые она же контекстуализируется. С данной точки зрения представляется не только правомерным, но и эвристически продуктивным рассматривать функциональные сети живых существ в биосемиотической терминологии, нежели в сугубо механистическом или энергетическом ключе (Emmeche 1999).
Второй момент касается упомянутых ранее разговоров о “генах-для”. Почему речь о генах, кодирующих то и это, так укрепились? Почему гены все еще выступают в качестве предельных детерминант и исполнителей жизни? Как мы увидели в предыдущих двух разделах, прогресс в концептуализации процессов организменного развития и эволюции полностью разрушил представления о генах, доминировавшие в классической генетике и на ранних этапах молекулярной генетики. Почему, вопрошаем мы вслед за Моссом, генетика все еще “понимается не как практика инструментального редукционизма, а, скорее, в конститутивно редукционистском ключе”, подразумевающем “способность объяснять производство фенотипа на основе генов” (Moss 2003, 50)? Недавнее эмпирическое исследование Пола Гриффитса и Каролы Стоц о том, как биологи концептуализируют гены, действительно приводит к следующему выводу: , “классическое понятие молекулярного гена продолжает функционировать как своего рода стереотип для биологов, - даже несмотря на множество случаев, когда это понятие не дает принципиального ответа на вопрос, является ли конкретная последовательность геном ” (Stotz, Griffiths and Knight 2004, 671). Уотерс дает удивительный, но вполне правдоподобный эпистемологический ответ на эту мнимую загадку.
Он убедительно напоминает нам, что в контексте научно-исследовательской работы гены в первую очередь рассматриваются как объекты, обладающие скорее исследовательской, нежели объяснительной ценностью (Waters 2004; cf. Weber 2004, 223).
Они кажутся столь привилегированными именно на основании их эпистемической функции в исследовании. Уотерс сознательно выходит за рамки вопроса о редукционизме или антиредукционизме, структурировавшем так много философских работ по современной биологии - особенно по генетике и молекулярной биологии в последние десятилетия, - и связывает его с философской литературой о взаимосвязи между причинностью и манипулируемостью, стяжавшей известность в последнее время (Waters 2007). Он подчеркивает: успехи геноцентрического взгляда на организм обусловлены не тем, что гены являются главными детерминантами основных процессов в живых существах. Скорее, они занимают столь видное место, поскольку обеспечивают весьма успешные точки входа для исследования этих процессов. Согласно этой точке зрения, успех геноцентризма обоснован не онтологически, а прежде всего эпистемологически и прагматически (ср. Gannett 1999).
Отсюда вытекают два основных философских утверждения:
- во-первых, научный успех генетики обеспечен именно структурой научного исследования, а не всеобъемлющей системой объяснений; и,
- во-вторых, когда генетические объяснения должны находиться на онтологическом уровне, их существенная неполнота требует поощрения научного плюрализма (Waters 2004b; Dupré 2004; Burian 2004; Griffiths and Stotz 2006).
Вопрос о том, будут ли – и, если да, то как долго – эти модели по-прежнему основываться на генах, остается открытым. Любые ответы на этот вопрос будут зависеть от результатов будущих исследований, а не от онтологии жизни.
Библиография
На русском языке:
● Докинз Ричард, 2013 [1976]. Эгоистичный ген / пер. с англ. Н. Фоминой. — Москва: АСТ:CORPUS.
● Добжанский Феодосий, 2010 [1937]. Генетика и происхождение видов. М.: URSS.
● Шрёдингер Э. Что такое жизнь? М.: АСТ, 2018 [1944]
На других языках:
● Allen, Garland, 1986. “T. H. Morgan and the split between embryology and genetics, 1910-1926,” in T. Horder, I. A. Witkowski, and C. C. Wylie (eds.), A History of Embryology, Cambridge: Cambridge University Press.
● –––, 2002. “The classical gene: its nature and its legacy,” in L. S. Parker and R. A. Ankeny (eds.), Mutating concepts, evolving disciplines: genetics, medicine and society, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
● Baetu, T.M., 2012. “Genes after the human genome project,” Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 43: 191–201.
● Bateson, William, 1902. Mendel's Principles of Heredity: A Defence, Cambridge: Cambridge University Press.
● Beurton, Peter, 2000. “A unified view of the gene, or how to overcome reductionism,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 286–314.
● Bowler, Peter, 1983. The Eclipse of Darwinism, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
● –––, 1989. “The Mendelian Revolution: The Emergence of Hereditarian Concepts in Modern Science and Society,” Baltimore: Johns Hopkins University Press.
● Burian, Richard M., 1985. “On conceptual change in biology: The case of the gene,” in David J. Depew and Bruce H. Weber (eds.), Evolution at a Crossroads. The New Biology and the New Philosophy of Science, Cambridge, MA: MIT Press, 21–42.
● –––, 2004. “Molecular Epigenesis, Molecular Pleiotropy, and Molecular Gene Definitions.” History and Philosophy of the Life Sciences, 26: 59–80.
● Carlson, Elof A., 1966. The Gene: A Critical History, Philadelphia: Saunders.
● –––, 1991. “Defining the Gene: An Evolving Concept.” American Journal for Human Genetics, 49: 475–487.
● Chadarevian, Soraya de, 2002. Designs for Life: Molecular Biology after World War II, Cambridge: Cambridge University Press.
● Churchill, Frederic, 1974. “William Johannsen and the genotype concept,” Journal of the History of Biology, 7: 5–30.
● –––, 1987. “From heredity theory to ‘Vererbung’: The transmission problem, 1850-1915,” Isis, 78: 337–364.
● Coleman, William, 1965. “Cell, nucleus and inheritance: an historical study,” Proceedings of the American Philosophical Society, 109: 124–158.
● Correns, Carl, 1924. “Die Ergebnisse der neuesten Bastardforschungen für die Vererbungslehre (1901),” in Carl Correns, Gesammelte Abhandlungen zur Vererbungswissenschaft aus periodischen Schriften 1899–1924, Berlin: Julius Springer, 264–286.
● Crick, Francis, 1958. “On protein synthesis,” Symposium of the Society of Experimental Biology, 12: 138–163.
● Darden, Lindley, 2005. “Relations among fields: Mendelian, cytological and molecular mechanisms,” Studies in History and Philosophy of the Biological and Biomedical Sciences, 36: 349–371.
● Dietrich, Michael R., 2000. “From gene to genetic hierarchy: Richard Goldschmidt and the problem of the gene,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 91–114.
● Doolittle, W.F., T.D.P Brunet, S. Linquist, and T.R. Gregory, 2014. “Distinguishing between “Function” and “Effect” in Genome Biology,” Genome Biology and Evolution, 6: 1234–1237.
● Dunn, Leslie Clarence, 1965. A Short History of Genetics. The Development of some of the Main Lines of Thought: 1864–1939, New York: McGraw-Hill.
● Dupré, John, 2004. “Understanding contemporary genetics,” Perspectives on Science, 12: 320–338.
● Elkana, Yehuda, 1970. “Helmholtz Kraft: A case study of ‘concepts in flux’,” Historical Studies in the Physical Sciences, 2: 263–298.
● Emmeche, Claus, 1999. “The Sarkar challenge: Is there any information in a cell?” Semiotica, 127: 273–293.
● ENCODE Project Consortium, 2012. “An integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome,” Nature, 489: 57–74.
● Falk, Raphael, 1986. “What is a gene?” Studies in the History and Philsophy of Science, 17: 133-173.
● –––, 1995. “The struggle of genetics for independence,” Journal of the History of Biology, 28: 219–246.
● –––, 2000. “The gene–a concept in tension,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 317–348.
● –––, 2001. “The rise and fall of dominance,” Biology and Philosophy, 16: 285–323.
● Fischer, Ernst Peter, 1995. “How many genes has a human being? The analytical limits of a complex concept,” in E. P. Fischer and Sigmar Klose (eds.), The Human Genome, München: Piper, 223–256.
● Fogle, Thomas, 1990. “Are genes units of inheritance,” Biology & Philosophy, 5: 349–371.
● –––, 2000. “The dissolution of protein coding genes in molecular biology,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger, The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 3–25.
● Gannett, Lisa, 1999. “What's in a cause? The pragmatic dimensions of genetic explanations,” Biology and Philosophy, 14: 349–374.
● García-Sancho, M., 2012. Biology, Computing, and the History of Molecular Sequencing: From Proteins to DNA, 1945-2000, London: Palgrave Macmillan.
● Gayon, Jean, 1995. “Entre force et structure: genèse du concept naturaliste de l'hérédité,” in Jean Gayon and Jean-Jacques Wunenburger (eds.), Le paradigme de la filiation, Paris: L'Harmattan.
● –––, 1998. Darwinism's Struggle for Survival. Heredity and the Hypothesis of Natural Selection, Cambridge: Cambridge University Press.
● –––, 2000. “From measurement to organization: A philosophical scheme for the history of the concept of heredity,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 69–90.
● Gayon, Jean and Doris Zallen, 1998. “The role of the Vilmorin Company in the promotion and diffusion of the experimental science of heredity in France, 1840-1920,” Journal of the History of Biology, 31: 241–262.
● Germain, P.-L., E. Ratti, and F. Boem, 2014. “Junk or functional DNA? ENCODE and the function controversy,” Biology and Philosophy, 29: 807–831.
● Gerstein, Mark B. et al, 2007. “What is a gene, post-ENCODE? History and updated definition,” Genome Research, 17: 669–681.
● Gilbert, Scott, 2000. “Genes classical and genes developmental. The different use of genes in evolutionary syntheses,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 178–192.
● Gilbert, W., 1978. “Why genes in pieces?” Nature, 271: 501.
● Goldschmidt, Richard. 1940. The Material Basis of Evolution, New Haven: Yale University Press.
● Griesemer, James, 2000. “Reproduction and the reduction of genetics,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 240–285.
● –––, 2007. “Tracking organic processes: Representations and research styles in classical embryology and genetics,” in Manfred D. Laubichler und Jane Maienschein (eds.), From Embryology to Evo-Devo: A History of Developmental Biology, Cambridge, MA: The MIT Press, 375–434.
● Griffiths, P., and K. Stotz, 2013. Genetics and Philosophy: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.
● Griffiths, Paul, and Karola Stotz. 2006. “Genes in the postgenomic era,” Theoretical Medicine and Bioethics, 27: 499–521.
● Gros, François, 1991. Les secrets du gène. Nouvelle édition revue et augmeentée, Paris: Editions Odile Jacob.
● Hall, Brian K., 2001. “The gene is not dead, merely orphaned and seeking a home,” Evolution and Development, 3: 225–228.
● Holmes, Frederic L., 2006. Reconceiving the Gene: Seymour Benzer's Adventures in Phage Genetics, Edited by William C. Summers. New Haven: Yale University Press.
● Jablonka, Eva and Marion J. Lamb, 2005. Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, Cambridge, MA: The MIT Press.
● Jablonka, E., and G. Raz, 2009. “Transgenerational epigenetic inheritance: prevalence, mechanisms, and implications for the study of heredity and evolution,” The Quarterly Review of Biology, 84: 131–176.
● Jacob, François, 1976. The Logic of Life, New York: Vanguard.
● –––, 1977. “Evolution and tinkering,” Science, 196: 1161–1166.
● Johannsen Wilhelm, 1911. “The genotype conception of heredity,” The American Naturalist, 45: 129–159.
● –––, 1909. Elemente der exakten Erblichkeitslehre, Jena: Gustav Fischer.
● Judson, Horace F., 1996. The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology, Second edition, Plainview, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
● Kühn, Alfred, 1941. “Über eine Gen-Wirkkette der Pigmentbildung bei Insekten,” Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, 231–261.
● Kay, L.E., 1993. The Molecular Vision of Life: Caltech, the Rockefeller Foundation, and the Rise of the New Biology, Oxford: Oxford University Press.
● Kay, Lily, 2000. Who Wrote the Book of Life? A History of the Genetic Code, Stanford: Stanford University Press.
● Keller, Evelyn Fox, 2014. “From gene action to reactive genomes,” The Journal of Physiology, 592: 2423–2429.
● –––, 2000. “Decoding the genetic program: Or, some circular logic in the logic of circularity,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 159–177.
● –––, 2001. The Century of the Gene, Cambridge, MA: Harvard University Press.
● Kim, Kyung-Man, 1994. Explaining Scientific Consensus: The Case of Mendelian Genetics, New York: Guilford Press.
● Kirschner, Marc W., and John C. Gerhart, 2005. The Plausibility of Life: Resolving Darwin's Dilemma, New Haven: Yale University Press.
● Kitcher, Philip, 1982. “Genes,” British Journal for the Philosophy of Science, 33: 337-359.
● –––, 1984. “1953 and all that: A tale of two sciences,” The Philosophical Review, 93: 335–373.
● –––, 2001. “Battling the undead: How (and how not) to resist genetic determinism,” in Rama Shankar Singh et al, (eds.), Thinking about Evolution: Historical, Philosophical, and Political Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press.
● Kohler, Robert E., 1994. Lords of the Fly: Drosophila Genetics and the Experimental Life, Chicago: University of Chicago Press.
● López Beltrán, Carlos, 2004. “In the cradle of heredity: French physicians and l'hérédité naturelle in the early nineteenth century,” Journal of the History of Biology, 37: 39–72.
● Landecker, Hannah, 2007. Culturing Life: How Cells Became Technologies, Cambridge, MA: Harvard University Press.
● Leonelli, S., 2008. “Bio-Ontologies as Tools for Integration in Biology,” Biological Theory, 3: 7–11.
● Lindee, M.S., 2005. Moments of Truth in Genetic Medicine, Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.
● MacKenzie, Donald and Barry Barnes, 1979. “Scientific judgment: The Biometry-Mendelism controversy,” in Barry Barnes and Stephen Shapin (eds.), Natural Order: Historical Studies of Scientific Culture, Beverly Hills: Sage.
● Martins, Lilian Al-Chueyer Pereira, 1999. “Did Sutton and Boveri propose the so-called Sutton-Boveri chromosome hypothesis?” Genetics and Molecular Biology, 22: 261–271.
● Mattick, J.S., 2007, “A new paradigm for developmental biology,” Journal of Experimental Biology, 210: 1526–1547.
● Maynard Smith, John, 2000. “The concept of information in biology,” Philosophy of Science, 67: 177–194.
● Mayr, Ernst and William Provine (eds.), 1980. The Evolutionary Synthesis: Perspectives on the Unification of Biology, Cambridge, MA: Harvard University Press.
● Meloni, M., and G. Testa, 2014. “Scrutinizing the epigenetics revolution,” BioSocieties, advance online publication 4 August 2014: 1-26.
● Mitchell, S.D., 2009. Unsimple Truths: Science, Complexity, and Policy, Chicago: University of Chicago Press.
● Morange, M., 2000a. A History of Molecular Biology, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
● –––, 2000b. “The developmental gene concept: History and limits,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 193–215.
● –––, 2001. The Misunderstood Gene, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
● Morgan, T.H., 1926. The theory of the gene, New Haven: Yale University Press.
● –––, 1935. “The relation of genetics to physiology and medicine,” Les prix Nobel en 1933, Stockholm: Imprimerie Royale, 1–16.
● Morgan, Thomas H., Alfred H. Sturtevant, Herman J. Muller, and Calvin B. Bridges, 1915. The Mechanism of Mendelian Heredity, New York: Henry Holt.
● Moss, Lenny, 2003. What Genes Can't Do, Cambridge: The MIT Press.
● –––, 2008. “The meanings of the gene and the future of the phenotype,” Genetics, Society and Policy, 4: 38–57.
● Muller, Herman J., 1951. “The development of the gene theory,” in Leslie C. Dunn (ed.), Genetics in the 20th Century. Essays on the Progress of Genetics During its First 50 Years, New York: Macmillan, 77–99.
● Müller-Wille, Staffan, 2007. “Hybrids, pure cultures, and pure lines: From nineteenth-century biology to twentieth-century genetics,” Studies in History and Philosophy of the Biological and Biomedical Sciences, 38: 796–806.
● Müller-Wille, Staffan, and Hans-Jörg Rheinberger, 2007. “Heredity: The Production of an Epistemic Space,” in Staffan Müller-Wille and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), Heredity Produced. At the Crossroads of Biology, Politics and Culture, 1500-1870, Cambridge, MA: MIT Press, 3–34.
● –––, 2012. A Cultural History of Heredity, Chicago: University of Chicago Press.
● Müller-Wille, Staffan, and Vitezslav Orel, 2007. “From Linnaean species to Mendelian factors: Elements of hybridism, 1751-1870,” Annals of Science, 64: 171–215.
● Neumann-Held, Eva M., and Christoph Rehmann-Sutter (eds.), 2006. Genes in Development: Re-Reading the Molecular Paradigm, Durham: Duke University Press.
● Olby, Robert C., 1974. The path to the double helix, London: Macmillan.
● –––, 1979. “Mendel no Mendelian?” History of Science, 17: 53–72.
● –––, 1985. Origins of Mendelism, Second edition, Chicago: University of Chicago Press.
● Orel, V. and D.L. Hartl, 1994. “Controversies in the interpretation of Mendel's discovery,” History and Philosophy of Life Sciences, 16: 436–455.
● Oyama, Susan, Paul E. Griffiths, and Russell D. Gray (eds.), 2001. Cycles of Contingency: Developmental Systems and Evolution, Cambridge, MA: The MIT Press.
● Perini, L., 2011. “Sequence Matters: Genomic Research and the Gene Concept,” Philosophy of Science, 78: 752–762.
● Piro, R.M., 2011. “Are All Genes Regulatory Genes?” Biology and Philosophy, 26: 595–602.
● Portin, Petter, 1993. “The concept of the gene: Short history and present status,” The Quarterly Review of Biology, 68: 173–223.
● Provine, William B., 1971. Origins of Theoretical Population Genetics, Chicago: University of Chicago Press.
● Rheinberger, Hans-Jörg, 1997. Toward a History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the Test Tube, Stanford: Stanford University Press.
● –––, 2000a. “Ephestia: the experimental design of Alfred Kühn's physiological developmental genetics,” Journal of the History of Biology, 33: 535–576.
● –––, 2000b. “Gene concepts: Fragments from the perspective of molecular biology,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 219–239.
● –––, 2008. “Heredity and its entities around 1900,” Studies in History and Philosophy of Science Part A, 39: 370–374.
● Richmond, Martha, 2007. “The cell as the basis for heredity, development, and evolution: Richard Goldschmidt's program of physiological genetics,” in Manfred D. Laubichler und Jane Maienschein (eds.). From Embryology to Evo-Devo: A History of Developmental Biology, Cambridge, MA: The MIT Press, 169–211.
● Robinson, Gloria, 1979. A Prelude to Genetics: Theories of a Material Substance of Heredity, Darwin to Weismann, Lawrence, Kansas: Coronado Press.
● Roll-Hansen, Nils, 1978a. “The genotype theory of Wilhelm Johannsen and its relation to plant breeding and the study of evolution,” Centaurus, 22: 201–235.
● –––, 1978b. “Drosophila genetics: A reductionist research program,” Journal of the History of Biology, 11: 159–210.
● Rose, N., 2007. The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton, NJ: Princeton University Press.
● Sarkar, Sahotra, 1996. “Biological information: A skeptical look at some central dogmas of molecular biology,” in Sahotra Sarkar (ed.), The Philosophy and History of Molecular Biology: New Perspectives, Dordrecht: Kluwer, 187–231.
● –––, 1998. Genetics and reductionism, Cambridge: Cambridge University Press.
● Schaffner, Kenneth F., 1969. “The Watson-Crick model and reductionism,” British Journal for the Philosophy of Science, 20: 325–48.
● –––, 1993. Discovery and Explanation in Biology and Medicine, Chicago: University of Chicago Press.
● Schwartz, James, 2008. In Pursuit of the Gene. From Darwin to DNA, Cambridge, MA: Harvard University Press.
● Schwartz, Sara, 2000. “The differential concept of the gene: Past and present,” in Peter Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger (eds.), The Concept of the Gene in Development and Evolution. Historical and Epistemological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 26–39.
● Stent, Gunther S., 1977. “Explicit and implicit semantic content of the genetic information,” in Robert E. Butts and Jaakko Hintikka (eds.), Foundational Problems in the Special Sciences, Dordrecht: D. Reidel, 131–149.
● Sterelny, Kim and Philip Kitcher, 1988. “The return of the gene,” Journal of Philosophy, 85: 339–360.
● Stevens, H., 2013. Life Out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics, Chicago: University of Chicago Press.
● Stotz, Karola, Paul E. Griffiths, and Rob Knight, 2004. “How biologists conceptualize genes: an empirical study,” Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 35: 647–673.
● Stubbe, Hans, 1965. Kurze Geschichte der Genetik bis zur Wiederentdeckung der Vererbungsregeln Gregor Mendels, Jena: VEB Fischer.
● Waddington, C.H., 1957. The strategy of the genes; a discussion of some aspects of theoretical biology, London: Allen & Unwin.
● Waters, Kenneth C., 1994. “Genes made molecular,” Philosophy of Science, 61: 163–185.
● –––, 2000. “Molecules made biological,” Revue Internationale de Philosophie, 4: 539–64.
● –––, 2004a. “What was classical Genetics?” Studies in History and Philosophy of Science, 35:83–109.
● –––, 2004b. “A pluralist interpretation of gene-centered biology,” in Stephen E. Kellert, Helen E. Longino and K. C. Waters (eds.), Scientific Pluralism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 190–214.
● –––, 2007. “Causes that make a difference,” The Journal of Philosophy, 104: 551–579.
● Weber, Marcel, 2004. “Philosophy of Experimental Biology,” Cambridge: Cambridge University Press.
● –––, 2007. “Redesigning the fruitfly: The molecularization of Drosophila,” in Angela N. H. Creager, Eliyabeth Lunbeck, and M. Norton Wise (eds.), Science Without Laws: Model Systems, Cases, Exemplary Narratives, Durham: Duke University Press, 23–45.
● West-Eberhard, Mary Jane, 2003. Developmental Plasticity and Evolution, Oxford: Oxford University Press.

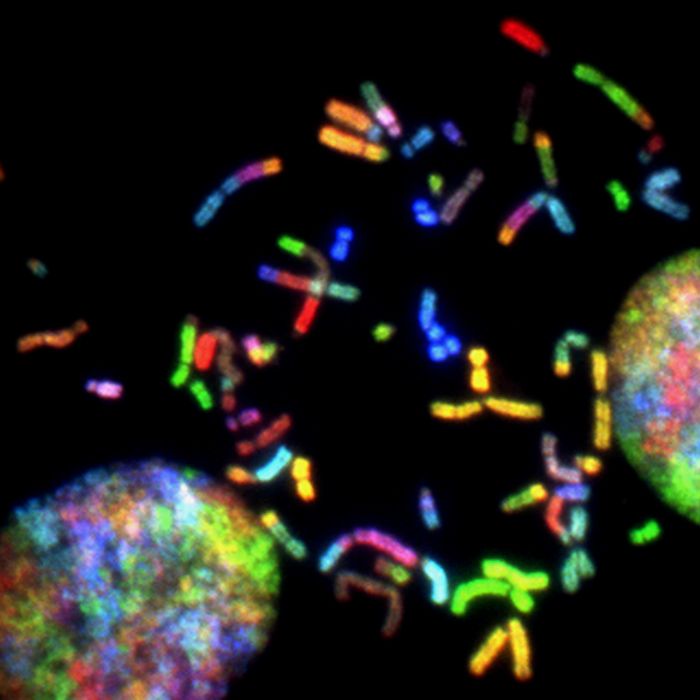




.jpg)







