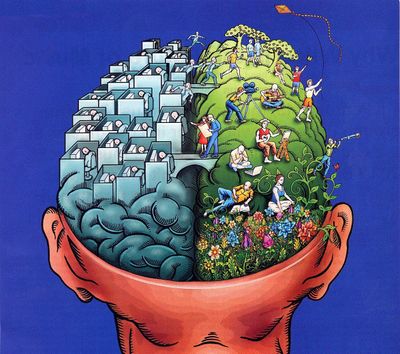Японская конфуцианская философия
Впервые опубликовано 20 мая 2008 года; содержательно переработано 5 июля 2013 года.
В традиционном восточноазиатском словаре не существовало единого термина, который бы точно и на постоянной основе соответствовал понятию конфуцианства. Тем не менее в позднем Средневековье и в эпоху раннего Нового времени японские мыслители стали отчетливо осознавать целостность различных конфуцианских течений, существовавших под разными названиями. Это очевидно в отношении «трех учений» — конфуцианства, буддизма и даосизма и/или синтоизма. Один из примеров — «Избранные сочинения об этике» (Irinshô, 1640) Мацунаги Секиго (1592–1657), начинающиеся с утверждения: «Между небесами и землей существует три основных пути — конфуцианский, то есть путь по Конфуцию; буддийский, то есть путь Шакьямуни; и даосский, или путь Лао-цзы».
Самые распространенные наименования конфуцианства в японской истории, традиционной и современной, — это термины Jugaku и Jukyô. Здесь Ju — японское прочтение китайского слова Ru, буквально означающее «слабые, мягкотелые». Оно относилось к ученым, которые предпочитали работать умом, а не телом и, следовательно, считались слабыми. Термин использовался поздними мыслителями для объяснения учения Конфуция (551–479 до н.э.). Признание наименования отчасти отражало неприятие Конфуцием силы принуждения в отличие от мягкой силы нравственного примера и предположительно неоспоримой эффективности морального воздействия.
На Западе термин «конфуцианство» впервые стали использовать в результате общения иезуитских миссионеров с китайскими мыслителями. Иезуитский термин «конфуцианство» — латинский вариант почтительного упоминания великого китайского мудреца Кун Фу-цзы (Kong Fuzi). Без почтительного «фу-цзы» (fuzi) имя Конфуция звучит как Кун Цю (Kong Qiu). Сравнительно недавние версии происхождения западного термина не должны заслонять тот факт, что в восточноазиатской интеллектуальной сфере понимание конфуцианства издавна выстраивалось не на основе отсылки к основателю учения — Конфуцию, — а напротив, к его последователям — Ju, ученым.
В западной школе изучение конфуцианства как «философии» началось с иезуитского сборника «Конфуций, китайский философ» (Confucius Sinarum Philosophus), опубликованного в Париже в 1687 году с посвящением королю Людовику XIV. Сборник восхвалял мысль Конфуция и содержал отдельные переводы из «Великого учения», «Лунь юй» и «Учения о срединном и низменном». Опубликованный первоначально на латыни, «Конфуций, китайский философ» был вскоре переведен на французский, немецкий и английский. Сборник вскоре получил известность и оказал влияние на ранних поклонников конфуцианства и китайской философии, в том числе Готфрида Лейбница (1646–1716) и Вольтера (1694–1778). Со сборником также ознакомились те, кто позже выступил с критикой конфуцианства, включая Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831), который отмечал, что Конфуций пользовался бы более высокой репутацией, не существуй переводов его работ. Так или иначе, Гегель никогда категорически не отвергал возможность рассмотрения конфуцианской мысли как «философии», даже несмотря на пренебрежительное к ней отношение.
Гегелевский взгляд, что история философии включает и азиатскую философию, в том числе китайскую с Конфуцием во главе, повлиял на первое определение, данное «японской философии» и «японской конфуцианской философии». В период с 1884 по 1890 годы в Гейдельберге и Лейпциге учился Иноуэ Тецудзиро (1855–1944), который специализировался на немецком идеализме и Гегеле. Десять лет спустя после возвращения в Японию, получив должность первого японского профессора философии в Токийском имперском университете, Тецудзиро начал публикацию своего монументального трехтомного изложения японской философии — «Философия японской школы Ван Янмина» (Nihon Yômeigakuha no tetsugaku, 1900), «Философия японской школы Древней науки» (Nihon kogakuha no tetsugaku, 1902) и «Философия Чжусианской школы» (Nihon Shushigakuha no tetsugaku, 1905). В отличие от Гегеля, Тецудзиро представил подробное и весьма благожелательное изложение японской философии как японского конфуцианства. В данной связи он утверждал, что задолго до знакомства с западной философией в Японии существовала своя содержательная философская традиция, по масштабу и многообразию в значительной степени сравнимая с любой национальной традицией западной философии. Несмотря на свою откровенно националистическую окраску, из-за которой она не всегда цитируется в современных исследованиях по истории философии в Японии, трилогия Тецудзиро остается первым подробным изложением японской философской мысли. Ее изображение конфуцианской мысли в качестве философской по своей природе оказало значительное влияние на позднее восточноазиатское восприятие конфуцианства. Несмотря на то, что Тецудзиро превозносил японскую конфуцианскую мысль как философскую, Китай эпохи династии Цин отказался от экзаменационной системы государственной службы, которая на протяжении пяти веков оценивала знание конфуцианских текстов. На позднее признание китайскими философами значения конфуцианства как самого основательного изложения традиционной китайской философии, как ни странно, в большей степени повлияло именно представление Тецудзиро о роли японского конфуцианства в развитии философии до знакомства Японии с Западом. Не будет преувеличением сказать, что изучение японского конфуцианства как философии началось с трилогии Тецудзиро.
Многие западные ученые обычно проводят различие между конфуцианством и неоконфуцианством. Как интерпретативная категория, неоконфуцианство отличается рядом нюансов, однако большинство ученых, использующих этот термин, относят его к видам конфуцианского философствования, которое возникло под влиянием буддизма. Ранние конфуцианские мыслители уделяли мало внимания многим философским установкам, которых придерживались буддисты. Например, буддисты часто утверждали, что метафизически все вещи лишены самостоятельного, субстанциального бытия. Они также считали, что реальность здравого смысла пронизана иллюзиями, основанными на эгоцентризме и неведении, а посему подвержена страданию. Ранние конфуцианцы, как правило, не обсуждали метафизику, считая, по-видимому, что допущения здравого смысла, касающиеся реальности в этом мире, не подлежат обсуждению. Когда буддистская оценка реальности получила распространение, конфуцианцы ответили метафизической формулировкой, в которой подчеркивали реальность мира, данного в опыте, и объясняли субстанциальную природу мира с помощью порождающей силы ки, преобразующей все, что существует, в нескончаемом процессе становления. Выдвигая такую метафизику ки, а также другие идеи, связанные с этикой, политикой, духовностью и человеческой природой, эти конфуцианские ученые столь широко опирались на раннее конфуцианство, что многие современные интерпретаторы стали называть их «неоконфуцианцами».
В данной статье в отношении различных понятий (людей, практик, дискуссий, текстов и др.) применяется термин «конфуцианский», возникший на основе или напрямую относящийся к «Лунь юй», а также к другим трудам древней литературы, связанной с «Лунь юй» и Конфуцием. Пять классических текстов древнего Китая, в том числе «Книга истории», «Книга Перемен», «Книга песен», «Записки о ритуале» и «Весна и осень», составляют конфуцианский канон, так как им чаще всего приписывается редактура Конфуция. Хотя современные исследователи могут оспаривать это утверждение, большинство мыслителей в китайской и восточноазиатской истории признавали традиционную точку зрения, согласно которой Конфуций считался редактором канонических текстов. Термин «неоконфуцианский» относят к мыслителям, идеям, текстам, практикам и институтам, которые развились на основе традиций конфуцианства, но при этом были переосмыслены в результате китайского и восточноазиатского взаимодействия с буддизмом. Термин «конфуцианский» может для простоты применяться и в отношении к неоконфуцианцам, хотя различия между конфуцианством и неоконфуцианством в достаточной мере значительны, чтобы они заслуживали разграничения.
Важность конфуцианства как наиболее полно изученного философского направления в японской истории неоспорима: как в Китае и Корее, так и в Японии конфуцианское философствование стало одним из основных, если не преобладающим, мировоззрений раннего Нового времени и модерна в целом. Его словарное наследие в современной японской риторике всеобъемлюще. Термины конфуцианства обретают новые роли в рассуждениях — начиная с современной философии и кончая наукой, религией, гуманитарными и общественными науками. Показательным примером важной роли конфуцианства в сегодняшней Японии является современное слово дайгаку (яп. daigaku, кит. Daxue), «университет», заимствованное из названия первой из четырех книг о неоконфуцианстве — Daxue («Великое учение», яп. Daigaku), текста, который воспринимался как путь к учению для взрослых. К слову, это наследие родом из Японии, начиная с основания первого Токийского императорского университета и ряда других университетов империи, включая императорский университет Киото, но вскоре оно получило распространение во всей Восточной Азии. Признание данного определения свидетельствовало о единодушии, сложившемся в среде восточноазиатских государственных деятелей и интеллигенции, в вопросе о роли конфуцианства в формировании прогрессивных образовательных ценностей региона, а также значения многогранного лексикона конфуцианства как наиболее подходящего для концептуализации и, в конечном итоге, отображения современности.
Происхождение конфуцианской философии и ее разновидности
Конфуцианство берет начало в учении Конфуция, несмотря на тот факт, что сам Конфуций не считал себя основателем философской школы. Вероятнее всего, основной его задачей заботой было воссоздать такой общественно-политический уклад, которому более всего соответствовал, по крайней мере в его понимании, первый период правления династии Чжоу (1027–256 до н.э.). Для достижения цели Конфуций много странствовал, добиваясь важных постов у правителей разных областей царства Чжоу. Он надеялся найти влиятельного покровителя, которого вдохновили бы его идеи об исправлении государства и общества. Хотя Конфуций так и не преуспел в этом, он обрел заинтересованных учеников и последователей его учения. По-видимому, за Конфуцием шли не только как за учителем, но и как за политическим деятелем. Тогда как сам Конфуций не оставил отдельных трактатов или диалогов, в которых последовательно излагались его личные идеи, записи его бесед с учениками были со временем записаны и объединены в книгу, наиболее известную как «Лунь юй». Длительное время ведутся споры, в какой мере «Лунь юй» действительно представляет собой истинное и последовательное изложение учения Конфуция. Тем не менее довольно много последователей на протяжении веков принимали этот текст, вне зависимости от его авторства, как труд, обязательный для прочтения и рассмотрения всеми, кто надеется развить более углубленное понимание наследия Конфуция.
Самым оригинальным философским понятием, приписанным Конфуцию, прежде всего стало понятие человечности, или жэнь (кит. ren; яп. jin). Хотя само оно никогда не подвергалось ясному и четкому толкованию, в отличие от его обсуждений и изучений, как сказано в «Лунь юй», практика жэнь сводится к утверждению «не навязывать другому того, чего не желаешь себе». Неудивительно, что это понятие стало «золотым правилом» конфуцианства и сравнивалось с кантовским категорическим императивом, призывающим людей действовать в соответствии с правилами, которые они хотели бы считать всеобщим законом. В «Лунь юй» жэнь является центральным понятием моральной философии с особым акцентом на его предельной этической всеобщности. Поскольку это понятие передавало саму суть конфуцианства, оно нашло отражение в трудах почти всех мыслителей в восточноазиатской истории, считавшихся в той или иной мере сторонниками учения.
Другим важным понятием «Лунь юй» является цзюнь-цзы (кит. junzi, яп. kunshi), «государь» или «благородный муж». Буквальное значение термина — «сын правителя». Однако в «Лунь юй» подчеркивается, что любой, кто в своем самовоспитании достигает добродетелей, свойственных государю, и в самом деле может считаться таковым. В то же время дается понять, что родившиеся в высокопоставленной семье, но не развивающие добродетелей, недостойны этого звания. По существу, раскрывая данное понятие, «Лунь юй» наметили этическую перспективу, исходя из которой даже самые высокие уровни общественно-политической иерархии могли подвергнуться критической оценке.
С политической точки зрения, согласно «Лунь юй», правление на основе подачи нравственного примера гораздо эффективнее, чем с привлечением закона и угрозы наказания. С помощью последнего можно добиться законопослушности, но не осознания моральной ответственности. С другой стороны, добродетельное правление порождает дисциплину не только когда действует власть принуждения, но и когда ее нет. Конфуций также подчеркивал первостепенное значение языка и его корректного применения для правильного управления государством. В одном из отрывков он утверждает, что обеспечение правильного использования языка и слов — первый шаг к хорошему правлению (13/3). Не отрицая важность правопорядка, Конфуций отвергал ограниченный легизм. Согласно «Лунь юй» (13/18), Конфуций даже считал, что правильнее было бы для отца скрыть преступления сына, чем выдать его властям. Вряд ли Конфуций одобрял уклонение от закона, скорее, это означало ответственность членов семьи за заботу о родственниках.
Также общеизвестно, что в «Лунь юй» не освещены темы метафизики и духовности. В частности, рассказывается о том, что учеников, желавших услышать о духовном, Конфуций в свою очередь спрашивал, почему они интересуются данной темой, тогда как они еще не усвоили нравственный путь человечности. В другом месте «Лунь юй» говорится, что Конфуций чтил духов, хотя и сторонился их. Эти отрывки подразумевают, что Конфуций предпочитал делать упор на том, что считал наиболее фундаментальным и действенным в нравственном учении, чем на таких темах, как метафизика.
Учение Конфуция получило развитие у ряда учеников в поздний период эпохи Чжоу. Наиболее последовательным из них был Мэн-цзы (371–289 до н.э.), наиболее известный на Западе по латинизированной версии имени — Менций. Одноименный текст передает наиболее важные положения конфуцианской философии, развитые Мэн-цзы. Без сомнения, наиболее значительным вкладом, сделанным Мэн-цзы в конфуцианскую мысль, было его однозначное утверждение, что человеческая природа от рождения блага. Конфуций отмечал, что по природе люди близки друг другу, но различаются по делам своим. Однако не совсем ясно, как или в каком смысле схожесть людей проявляется в действительности. Мэн-цзы выступал за врожденную доброту человечества, отмечая, как она естественным образом исходит из разума, наделенного чертами человечности, праведности, пристойности и мудрости. В то же время он утверждал, что зло, явно существующее в мире, имеет место в результате отступления людей от истоков доброты, с которой они родились. Задачей конфуцианского учения, по изложению Мэн-цзы, было поддержание доброго начала своего разума и обретения его в случае утери.
С политической точки зрения, Мэн-цзы сформулировал более решительный и конфронтационный подход по сравнению с «Лунь юй». Он считал, что когда правитель уклоняется от нравственных норм поведения и крайне злоупотребляет своим правлением, его можно и нужно отстранить от власти и даже казнить, не считая это цареубийством. В другом примере Мэн-цзы дает представление о законности с большим акцентом на народ, предполагая, что отправной точкой для получения законной власти является способность завоевать сердца и умы людей. Без этого правитель может не надеяться на успех. В равной степени важным является утверждение Мэн-цзы, что законное правление есть правление, основанное на нравственности и человечности — «человеколюбивое правление», или жэньчжэн (кит. renzheng, яп. jinsei).
По традиции, Конфуцию приписывают редактуру различных древнекитайских классических текстов, предположительно существовавших до него. Хотя в этом есть доля истины, имеются свидетельства, что классические тексты, известные в китайской истории, в текстологическом плане относятся к раннему периоду Ханьской империи (206 до н.э. — 220 н.э.). Считается, что всего существовало шесть классических текстов, однако во времена Ханьской династии канон состоял из пяти книг: «Книга Перемен» (Yijing), «Книга истории» (Shujing), «Книга песен» (Shijing), «Записки о ритуале» (Liji) и «Весна и осень» (Chunqiu). Как бы там ни было, среди поздних конфуцианцев распространилось мнение, что классические тексты, изучаемые ими, были частично отредактированы Конфуцием. Таким образом, они подспудно передавали его понимание истории, литературы, правил общественного поведения и даже перемены как таковой. В эпоху Ханьской империи началось широкое изучение этих текстов как дополнения к обязательной программе по конфуцианству. После короткого, но жестокого периода гонений на конфуцианских ученых и запрета конфуцианской литературы в период правления династии Цинь (221–206 до н.э.), с приходом Ханьской династии авторитет Конфуция — как самого благородного и почитаемого мудреца-философа и конфуцианцев — как отчетливо заявившей о себе группе мыслителей — стал возрастать.
В эпоху династии Хань в Китае появилась другая философская система — буддизм. После падения династии буддизм постепенно получал распространение, зачастую благодаря правлению элиты некитайского происхождения. Тогда как в период династии Суй и большей части правления династии Тан его присутствие было вполне заметным, со временем буддизм пал жертвой имперских репрессий на высшем уровне и распространившихся этноцентрических реакций на основе возраставшего осознания иностранной природы учений. Параллельно с негативной реакцией на буддизм и всеми философскими претензиями в его адрес были по-разному переформулированы и конфуцианские учения. Во многих случаях эти пересмотры конфуцианства проводились в настолько новом разрезе, что западные ученые называли их выражением неоконфуцианской философии. По существу, в восточноазиатской идеологии у термина имеются свои аналоги в форме таких определений, как Songxue — «учение империи Сун», xinglixue — «учение о человеческой природе и принципе», xinxue — «учение об уме» и lixue — «учение о принципе».
Несомненно, новейшей темой в неоконфуцианстве была метафизика: хотя Конфуций и Мэн-цзы, по всей видимости, признавали реальность мира, они не считали нужным теоретически объяснять это допущение даже поверхностно. Вследствие популярности буддизма во времена большей части правления Тан, в эпоху династии Сун и позднее неоконфуцианцы стали открыто утверждать реальность мира, заявляя о порождающей субстанциальной силе ки (кит. qi, яп. ki), способной принимать разную форму: жидкую, твердую и газообразную. Эта порождающая сила была ответом неоконфуцианцев на заявления буддистов относительно фундаментальной нематериальности мира. Согласно неоконфуцианцам, четкий порядок в мире порождающей силы обеспечивался за счет рационального принципа (кит. li, яп. ri), присущего всем вещам. Вкупе они — рациональный принцип и порождающая сила — представляли собой основные элементы разнообразия выражений, сводящихся к неоконфуцианскому утверждению реальности мира. Теоретики часто расходились во мнениях насчет приоритета одного понятия над другим, если вообще его допускали. Редко случалось так, чтобы поздние конфуцианские попытки рассуждать на тему метафизических выкладок абсолютно исключали какой-либо из двух метафизических элементов.
Другим новшеством было философское теоретизирование на тему духовных сил. Конфуций мало упоминал о них, делая упор на том, что истинной заботой людей должно стать понимание, как жить в человеческом мире. Все же, вслед за буддистскими рассуждениями о загробной жизни, перерождении, рае и аде, неоконфуцианцы были вынуждены высказаться на тему различных представлений о духовном мире. Одна из наиболее широко признанных позиций определяла духов и призраков (кит. uishen, яп. kishin) в терминах самопроизвольной активности в мире инь (yin) и ян (yang). Не отрицая существование духовных сил, сторонники такой точки зрения выдвигали своего рода натуралистическое объяснение духовного феномена.
Неоконфуцианцы не всегда были столь оригинальны. Практически все соглашались с утверждением Мэн-цзы о врожденной доброй природе человека. При этом многие признавали, что ум наделен четырьмя началами доброты, выраженными в человечности, праведности, пристойности и мудрости. В дополнение к заявлению Мэн-цзы многие неоконфуцианцы тем не менее считали, что человеческая природа является рациональным принципом, связывающим все человечество с рациональной структурой мира и наоборот — предоставляющим рациональному устройству реальности общую с внутренне присущей добротой основу, которая иначе характеризовала человечество через человеческую природу.
Взаимопроникновение космоса и человека также прослеживается и в некоторых других взглядах, возможно, наиболее заметно — в новых толкованиях древнего конфуцианского понятия жэнь в терминах формирования одного тела, содержащего все, что есть во вселенной. Такой мистицизм, более характерный для даосизма, чем для классического конфуцианства, представлял собой одну из наиболее отличительных черт многих неоконфуцианских высказываний. Безусловно, теоретические соображения поздних конфуцианских ученых не преследовали лишь одну цель противостоять буддизму: существовало немало примеров неоконфуцианского философствования, появившихся как переосмысление привлекательных аспектов буддизма или даосизма. Позднее такое переосмысление вызвало много критики. В этих новаторских идеях усматривалось оскорбительное инакомыслие, которому не следовало присутствовать в конфуцианской мысли.
Один пример неоконфуцианского переосмысления идей и/или практик буддизма принял форму часто практикуемого, хотя и отчасти спорного способа медитации, известного как цзин-цзо или сэйдза (кит. jingzuo, яп. сэйдза), «сидение в тишине». Наряду с ним неоконфуцианцы предложили альтернативу популярной чань- или дзэн-медитации, известной как цзочань или дзадзэн (кит. zuochan, яп. zazen). Эта практика была призвана помочь практикующему интуитивно постичь сущностную пустоту эго, также считавшуюся природой Будды, а также пустотой или нематериальностью всех вещей. Тем не менее неоконфуцианцы подчеркивали, что интроспективные моменты, достигнутые во время сидения в тишине, могут привести к полному просветлению, при котором человек ясно осознает изначальную доброту своей первозданной природы как нравственный принцип и его одновременную тождественность принципу, придающему форму всему во вселенной. Согласно неоконфуцианскому взгляду на «сидение в тишине», такое понимание нравственного единства самости и мира было основанием не для ухода от мира или пассивности, а, напротив, активного с ним взаимодействия.
Знакомство с конфуцианством в Японии: начальные этапы развития
По мере территориального и культурного продвижения Ханьской империи вглубь Корейского полуострова (как его называют сегодня), в середине VI века при посредничестве корейского государства Пэкче наравне с буддизмом и основами китайской цивилизации в Японии наметилась почва для ознакомления с конфуцианскими текстами и учениями. Следует отметить, что древний японский текст «Запись о делах древности», или «Кодзики» (Kojiki, 712) повествует о том, что около 400 года н.э. Кынчхого, правитель государства Пэкче отправил наставника по имени Вани с копией «Лунь юй» и другим китайским текстом — «Тысячесловием» (кит. Qianziwen, яп. Senjimon) — к царю Ямато. Предположительной целью было обучение принца Ямато конфуцианству и китайскому языку. Однако поскольку эта версия оспаривается, признание ее затруднительно. Как бы там ни было, Вани считался фигурой легендарной и культурной значимости и, согласно традиционным версиям, был первым ученым-преподавателем «Лунь юй», появившимся на Японских островах.
Судя по всему, в середине VI века государство Пэкче служило хорошим поставщиком конфуцианских текстов и ученых. Наиболее ярко выраженным новым философским веянием, переданным таким способом, был буддизм, в особенности через его представления в искусстве и архитектуре. Однако наряду с буддизмом пришло и конфуцианство, в частности, зарекомендовавшее себя как концептуально выстроенная философская система, задающая направление социальным, политическим и экономическим связям и институтам.
Продолжительный вклад раннего конфуцианства в японскую культуру отвечал концепциям исторического времени. В частности, как следствие знакомства с конфуцианством при японском императорском дворе, в обиход вошло понятие нэнго (яп. nengô, кит. nianhao), или «девиз правления», как способ подсчета лет в рамках периода правления одного императора. Система зародилась в Китае во времена Ханьской династии, так как императоры присваивали периоду правления свое имя для отражения политики и ценностей, которые они стремились претворить. В 1912 году с образованием Китайской республики эта традиция в Китае прекратилась, однако ей следуют и в наши дни, рассматривая как стандартное средство летоисчисления в Японии. Поскольку фактически каждое из нэнго, использованное в японской истории в качестве названия годового периода, берет начало из конфуцианских текстов, не остается сомнений, что японское понимание календарного времени передает оттенки, связанные с конфуцианской философией.
Аналогичная ситуация с именами, ассоциируемыми с императорами. Хотя предположительно японские императоры — и мифические, и исторические — в силу непрерывной преемственности произошли от синтоистских богов, начиная с Идзанаги и Идзанами, прародителей Аматэрасу и Сусаноо, имена, которые они выбирали, по своему стилю были определенно конфуцианскими. Такая связь существовала на протяжении всей истории Японской империи. В этом смысле конфуцианские оттенки императорских имен в Японии выдают значительные ограничения синтоизма как единственного основания для всего императорского.
В какой-то мере в древних японских концепциях о космосе также заметно конфуцианское влияние. Термины Ямато и Ниппон применялись для обозначения империи, которую на Западе назвали Японией, но когда древние японцы оперировали наиболее универсальными терминами, имея в виду не только свое общественно-политическое устройство, но и мир в целом, они часто применяли выражение тэнка (яп. tenka, кит. tianxia), или «Поднебесная». Этот термин впервые появился в древней классической конфуцианской литературе, в том числе в «Книге истории» и «Книге Перемен» (Yijing).
В космологическом смысле древние японцы отчасти объясняли свое происхождение в заметно конфуцианских терминах. И «Запись о делах древности» (Kojiki), и «Анналы Японии» (Nihon shoki) начинаются с космогонического повествования о происхождении мира, Японии и японского народа. Один из заслуживающих внимания элементов повествования — «пять стихий» (кит. wuxing; яп. gogyô): дерево, огонь, земля, металл и вода. В действительности они представляли собой онтологические силы, развертывавшиеся в последовательных, поэтапных сочетаниях и придававшие, в свою очередь, особенный метафизический характер времени, месту или вещи, а также четко выраженную динамику изменению. Неудивительно, что космология «Кодзики», равно как и «Нихон сёки» (Nihon shoki), отражает эклектический взгляд ханьского конфуцианства.
Вероятно, наиболее примечательный письменный памятник древней Японии, испытавший влияние конфуцианства, — это так называемая «Конституция семнадцати статей» (Jûshichijô kenpô), приписываемая принцу Сётоку (573–621). Хотя этот документ, по сути, не являлся конституцией, будучи проектом для правительства и политической организации, набором максим, призванным служить нормой для политического общества, он явно испытал влияние конфуцианства. Во вступительной статье говорится: «Следует ценить гармонию», — с намеком на «Лунь юй» (1/12). В остальных статьях в большинстве своем конституция выступает за светскую защиту конфуцианских принципов, например, важность естественной иерархии, влияющей на политическое государство, а также политические добродетели: благонадежность, послушность, церемониальный этикет, беспристрастие, усердие, добросовестность, умеренность и общественную сознательность. Хотя эти понятия можно было бы легко отвергнуть как абсолютно банальные, признание их отражало ту степень расположения, с какой относились даже на ранней стадии политического развития к конфуцианским понятиям в самой сердцевине официальной идеологии.
Политическая терминология, которую стали использовать в древней Японии, включая термин тэнно (tennô), «император», также была производной, по крайней мере отчасти, от множества конфуцианских текстов. В значительной степени Конфуций и поздние конфуцианцы были учителями, которые подчеркивали важность образования как источника наслаждения, так и способа самовоспитания и даже достижения совершенства в виде мудрости. Учитывая политическую направленность конфуцианства, не нужно удивляться, что обучение и образование считались предпосылками для правильного управления государством и обеспечения мира во всем мире.
Важные политические стратегии древней Японии также основывались на конфуцианских философских учениях. Система равного распределения земель хандэн (handen) в Японии явилась результатом положения «Мэн-цзы» (3 A/3) о «человеколюбивом правлении». Мэн-цзы разъяснял, что нельзя ожидать от людей хорошего законопослушания, если не удовлетворены их базовые материальные потребности, в том числе в пище, одежде и крове. Для обеспечения народа таковыми Мэн-цзы выступал за «равнополье» (кит. jingtian) — систему распределения земли всем семьям в равных долях. Согласно Мэн-цзы, человеколюбивое правление начинается именно с такой системы. Несмотря на реформы Тайка в XVII веке, такой идеалистический подход к распределению земли все больше нарушался специальными льготами на полупостоянное землевладение буддийскими храмами, синтоистскими святилищами, аристократами и предводителями самураев. И все же сама попытка реализации такого закона отражала охват, с которым древние японцы стремились воплотить эгалитаристские конфуцианские идеи о землевладении как способ закладки нравственных устоев политического общества.
Другим заслуживающим упоминания институтом была дайгакурё (яп. daigakuryô), или императорская академия, учрежденная для обучения детей императора и аристократов, которые с большой вероятностью будут пойдут на государственную службу. Древняя Япония никогда не следовала китайской практике отбора бюрократии путем экзаменов для гражданской службы, основанных на конфуцианском образовании и его практическом применении. Тем не менее, оказывая поддержку дайгакурё и ряду провинциальных школ, созданных по образцу проекта, изложенного в конфуцианской «Книге ритуалов», древняя Япония заложила элитную систему образования, сосредоточенную в основном на изучении конфуцианских текстов и развитии в себе общественно-политических добродетелей.
После Войны Гэмпэй (1180–1185) в Камакуре был установлен режим самураев. В религиозном и философском плане режим Камакуры больше склонялся к развитию риндзай дзэн-буддизма в качестве образца, чем учения Конфуция. Тогда как последнее значительно распространилось в мирные годы аристократического имперского правления, в период Средневековья настало время страдания, когда в качестве метода власти конфуцианским принципам нравственной добродетели и ритуального усовершенствования военные режимы предпочитали искусство войны. Таким образом, средневековый период стал свидетелем относительного упадка конфуцианства, в лучшем случае растворившегося в новом синкретическом культурологическое строе, как правило, на фоне господства той или иной формы буддизма.
Тем не менее на протяжении всей японской истории конфуцианство и буддизм всегда были тесно связаны. К примеру, ознакомление с конфуцианством проходило одновременно с введением буддизма. Далее неоконфуцианское учение различных философов школы Сун, включая братьев Чэн, Чжу Си и Лу Сяншань, в начале XIII века стало известно в Японии благодаря дзэнским монахам, странствовавшим по Китаю с целью углубленного изучения учения чань. На протяжении столетий идеи философов Сун в основном оставались предметом изучения в дзэнских монастырях, не приобретая независимого существования или философской цельности за пределами дзэн. Вряд ли этому стоит удивляться, учитывая, что сами неоконфуцианские философы, например Чжу Си, стали развивать конфуцианские идеи после изучения и практики чань-буддизма. В то время как Чжу Си начал критиковать буддизм, другие неоконфуцианцы не считали буддистские идеи заведомо несовместимыми с конфуцианством или неоконфуцианством. В конце концов, однако, многие неоконфуцианцы действительно превратились в явных и беспощадных критиков буддизма, а не в его толерантных соперников.
Первые попытки внедрить неоконфуцианское учение как независимое направление для изучения теории и практики можно заметить во времена правления императоров Ханадзоно (1308–1318) и Го-Дайго (1318–1339). Неудачная Реставрация Кэмму, проведенная императором Го-Дайго, — попытка восстановить централизованную монархию — была основана отчасти на его понимании императорской власти в соответствии с неоконфуцианскими текстами. Также в период Асикага после учебы в Китае некоторые дзэнские монахи школы риндзай вернулись на родину и стали выступать в поддержку неоконфуцианского учения для своих сёгунов. В начале XV века сёгунат Асикага основал академию Асикага, где предположительно несколько тысяч учеников стали изучать неоконфуцианство. Однако ученики были дзэнскими монахами.
Если включение икон конфуцианства в самурайскую архитектуру можно интерпретировать как свидетельство философского возвращения к конфуцианству, то замок Адзути Оды Нобунага (1534–1582) с изображением Конфуция и множеством образов других конфуцианских мудрецов бесспорно достоин упоминания. Высокое положение, предоставленное конфуцианству в замке Адзути, означает, что от мыслей о боевых стратегиях Нобунага устремлялся к обдумыванию плана управления страной и обеспечения в ней мира и порядка.
Конфуцианство раннего Нового времени: основные философские темы
Японское развитие конфуцианской философии часто обсуждается в связи с периодом Токугава (1600–1868), при этом скудно упоминается ранний период за исключением того обстоятельства, что конфуцианская мысль потонула в эклектизме, в котором доминировало дзэнское монашество. Конфуцианство периода Токугава обычно передается хронологическим перечислением имен и школ. Такой подход к философской истории японского конфуцианства во многом обусловлен интерпретациями, выдвинутыми Иноуэ Тецудзиро (1855–1944), профессором Токийского имперского университета, в его фундаментальной трилогии, датируемой концом XIX — началом XX века. Тецудзиро знаменит изложением японского конфуцианства как «философии» (tetsugaku) и утверждением, что конфуцианские ученые сформулировали важные и разнообразные философские концепции в Японии задолго до знакомства с западной философией.
Следуя в общих чертах гегелевской триаде «тезис–антитезис–синтез», Тецудзиро описал развитие японской философии посредством объяснения диалектических взаимосвязей между тремя основными философскими школами: Чжу Си, Ван Янмина и школой древнего знания. Со времен Тецудзиро японское конфуцианство чаще всего излагается в терминах этих трех школ как представляющих собой преемственность философов во взаимосвязи с каждым из них, включая философов школы Чжу Си: Фудзивара Сейка (1561–1617), Хаяси Радзан (1583–1657), Ямадзаки Ансай (1619–1682); философов школы Ван Янмина: Накаэ Тодзю (1608–1648) и Кумадзава Бандзан (1619–1691); и так называемых философов школы древнего знания: Ямага Соко (1622–1685), Ито Дзинсай (1627–1705) и Огю Сорай (1666–1728).
Вместо вышеупомянутой интерпретивной схемы, которая во многих аспектах, несмотря на «трилогическую» привлекательность, попросту не передает подробностей развития японского конфуцианства, в данной статье предлагается альтернативный подход. Конфуцианская философия представляется в качестве дискурса, состоящего из основных понятий, обращенных практически ко всем, кого можно было бы отнести к конфуцианским философам. Японские конфуцианцы вполне традиционно выражали свои философские взгляды, давая определение терминам, относящимся к самой сути их мировоззрения. Тогда как описание значений слов серьезно варьировалось, получила развитие легко распознаваемая идеология.
В общем и целом, с XVII по начало XIX века японское конфуцианство заново утверждало целостность, смысл языка и дискурсивную истину. Это повторное утверждение осуществлялось в противовес буддистскому взгляду на язык, довольно негативному при всем многообразии сутр в буддийском каноне Трипитака. Во всяком случае, так это воспринималось многими японскими конфуцианцами раннего Нового времени. Согласно этим конфуцианским критикам, буддисты считали, что обычному языку недостает сокровенного смысла и способности передавать абсолютную истину. Вместо поиска смысла буддисты настаивали на том, чтобы слова рассматривались как изначально пустые. Неправильно понятые как передатчики сущностных значений, они становились источником серьезных ошибок. Наверное, общей чертой конфуцианского философствования в период раннего Нового времени было мнение, что слова являются чрезвычайно важными носителями содержательных смыслов. Более того, слова и их правильное употребление считались конфуцианцами абсолютно необходимым фактором для самопознания, саморазвития и (на более широком уровне) для управления государством и обеспечения мира и процветания во всем мире. С этой стороны японскую конфуцианскую философию можно рассматривать как восточноазиатскую философию языка, заинтересованную поиском верных значений. «Верный смысл» считался фундаментальным понятием для любой попытки решить философские проблемы.
Поскольку главное достижение японского конфуцианского философствования заключалось в относительном отходе от номиналистических буддистских заявлений о семантической пустоте слов и сугубо конвенциональном характере значения и истины, оно заложило философскую платформу для концептуального усвоения западного философского учения в период Мэйдзи (1868–1912). Поскольку при всестороннем рассмотрении можно говорить об идейном течении с грандиозными последствиями для развития философии Нового времени в Японии, период между XVII и началом XIX века обозначен в статье как «раннее Новое время» (early modern), что лучше подчеркивает его роль в формировании модерна, чем при традиционной исторической периодизации, где периоды «Токугава» или «Эдо» часто ассоциируются с «поздним Средневековьем» или «феодальным» развитием. Представления раннего Нового времени о языке, смысле и истине сложились под влиянием конфуцианской философии. Вместе с тем и в Японии в течение данного периода конфуцианская философская мысль отнюдь не все время была поставлена на службу интересам клана Токугава, и даже не всегда центром ее была столица сёгуната, Эдо. Поэтому термины «Токугава» и «Эдо» как исторические категории не вполне передают в целом прогрессивный, предвосхищающий модерн прорыв конфуцианской идеологии в тот период.
К тому же японская конфуцианская философия возникла во многом в противовес западной религии — христианству — и всему, что было связано с этим, включая угрозу возможного господства. Так было на протяжении периода Токугава и Мэйдзи, что наиболее заметно в раннем труде периода Токугава — «Этике» (Irinshô) Мацунаги Секиго. Написав его вскоре после жестокого подавления Симабарского восстания, поднятого под влиянием христианства в 1637–1638 годах, Секиго вместо меча бился словом с опасной, как виделось ему, иноземной доктриной, способной разрушить государственный строй Японии. Его изначальная философская поддержка конфуцианства имела целью противостоять иноземной системе верований, чтобы восстановить нравственную и метафизическую позицию — с его точки зрения, всеобщую и тем не менее характерную для Восточной Азии и Японии. Вполне возможно, что поздние установки конфуцианства преследовали ту же цель даже намного позднее, когда серьезная угроза распространения христианства была остановлена государственными мерами, к примеру, требованием разрешения на установление храма. Аналогично, в поздний период Мэйдзи Иноуэ Тецудзиро назвал японское конфуцианство первой японской философией. Он также стал одним из самых резких и прямолинейных критиков христианства как изначально ошибочной и абсолютно неприемлемой для японцев системы мысли. На протяжении почти всей своей истории японское конфуцианство находилось — если не явно, то подспудно — в философской оппозиции христианству.
Язык
В силу того, что в средневековый период в японской истории философии преобладали различные формы буддизма, умы многих из тех, кого привлекала философия, были наполнены буддистскими суждениями о словах и смысле. Аспекты дзэн-буддийской практики (особенно риндзай дзэн) отличал антиинтеллектуализм. Для последней установки часто применялись коаны (kôan) — парадоксальные реплики, направленные на осознание природы Будды. Суть учения дзэн заключалась в том, что слова в лучшем случае являются простыми условными обозначениями, полезными для повседневного общения. С помощью фиксированных значений общепринятого языка нельзя в достаточной мере постичь преходящий, иллюзорный способ существования вещей — таковость или пустотность. Высший уровень истины, передаваемый от учителя ученику, было возможно передать лишь от ума уму тем способом, который обычно осуществлялся за пределами использования дискурсивного или понятийного языка.
В целом, неоконфуцианская позиция в Японии раннего Нового времени определялась в ее оппозиции утверждениям о семантической пустоте или радикальном номинализме, так часто проповедуемыми буддистами. Неоконфуцианское утверждение, согласно которому слова имеют серьезную смысловую нагрузку, могло бы показаться банальным, однако навряд ли оно представлялось таким в Японии на стыке Средневековья и раннего Нового времени. Действительно, подъем неоконфуцианской идеологии в период Токугава следует понимать как восстановление смысловой значимости языка и его критического значения в отношении познания истины.
Раннее выражение неоконфуцианской убежденности в критическом значении языка и смысла нашло отражение у Хаяси Радзана в предисловии к его обиходному толкованию книги Чэна Бэйси (1159–1223) «Значения неоконфуцианских терминов» (Xingli ziyi). К слову, последний текст легко интерпретируется как последовательное восстановление значения терминов после эры семантического скептицизма и как защита конфуцианского реализма от широко распространенного буддийского номинализма. В пользу посвящения Радзаном последних лет своей жизни пространному обиходному толкованию «Значений терминов» Бэйси говорит и объем текста, в котором он излагает свой взгляд на важность языка. В предисловии Радзан объясняет критически важную природу языка, рассуждая так: «…образ мыслей мудрецов и достойных мужей проявляется в их словах, а их слова мы находим в их сочинениях. Возможно ли постичь образ мыслей мудрецов и достойных мужей без понимания смысла их слов?» Радзан далее подчеркивал, что люди никогда не могли бы постичь образ мыслей мудрых и достойных мужей сами, если бы изначально не понимали комментарии мудрых и достойных как слова, изложенные в текстах и сообщающие их.
Радзан даже считал, что погружение в слова мудрых — лучший способ получить своего рода обстоятельный мистический опыт просветления. Поэтому, когда возник вопрос о способах изучения слов, Радзан предложил:
Прочтите их по горизонтали! Прочтите их по вертикали! Прочтите их слева направо и справа налево! Постигните их источник! Проанализируйте их и обобщайте до тех пор, пока не проникнетесь ими глубоко от начала и до конца. В конце концов вы поймете, что всё в сочинениях мудрых приводит к единому схватыванию принципа. Когда вы осознаете мистическое единство с текстами мудрых, такое, где самость и эти тексты недвойственны [по отношению друг к другу], тогда можно считать, что вы прочли их хорошо! Как это можно считать истиной только для «Шести канонов»? Тот же способ применим и к другим классическим текстам!
Радзан не был единственным, кто придавал особое значение семантической целостности слов. Ито Дзинсай в своем наиболее подробном философском тексте «Значение слов в „Лунь юй“ и „Мэн-цзы“» (Gomô jigi) ясно высказывается как в защиту смысловой значимости слов, так и всестороннего, систематического анализа значений двух дюжин сложнейших философских терминов. В предисловии к «Значению слов…» Дзинсай дает объяснение своему педагогическому подходу через призму исследования языка и значения. Он пишет:
Дзинсай делал акцент на семантической этимологии и филологическом наставлении для противостояния буддийской подготовке и исходным предпосылкам: он хотел, чтобы его ученики поняли разницу между буддийскими и конфуцианскими терминами со всеми их оттенками. В частности, Дзинсаю не нравилось присутствие стольких очевидно буддийских терминов в неоконфуцианских рассуждениях. Пытаясь избавить от них неоконфуцианство, Дзинсай приложил все усилия, чтобы задокументировать еретическое происхождение слов с их последующим устранением из неоконфуцианских сочинений.
Очерки в защиту способности языка отражать реальность были довольно распространены в неоконфуцианстве периода раннего Нового времени. «Определение имен» (Benmei) Огю Сорая (1666–1728) представляет собой еще более глубокий анализ философской терминологии, чем «Значение слов» Дзинсая. В предисловии к «Определению имен» Сорай заостряет внимание на политической стороне языка и значения, по крайней мере, в рассмотрении ее многими конфуцианцами и неоконфуцианцами. Допуская, что некоторые слова вводятся в обращение простым народом, Сорай подчеркивал, что более абстрактные и философские термины — это те, которые сформулированы мудрецами для просвещения народа относительно основных принципов цивилизованной жизни. Сорай добавлял, что из-за мощного воздействия этих терминов государям следует использовать их с осторожностью.
Затем Сорай ссылается на отрывок из «Лунь юй» (13/3), в котором Конфуций отмечает, что при вступлении в обязанности управления государством первоочередной задачей он сделал бы исправление значений и употреблений слов. Когда его спросили о причине такого решения, Конфуций ответил, что в социальном и политическом плане все зависит от верного применения языка. Без него люди могут дойти до беспредела. Сорай продолжает обрисовывать свое понимание проблем, связанных с философским значением в его время, прибавляя, что его намерением в написании «Определения имен» было осознание правильных связей между словами и вещами для постижения образа мыслей мудрых.
По существу, Сорай полагал, что давая правильное определение слов, он обеспечивал фундамент для целостности правильно управляемого общественного и политического строя. В конечном счете выходит, что конфуцианцы и неоконфуцианцы в своих повторных утверждениях важности языка и значения не просто предавались филологическим занятиям или поиску скрытой семантики. Напротив, они участвовали в попытке возвращения на Путь (кит. dao, яп. michi), ведущий к благородной истине и к основе справедливого политического строя.
Можно привести много других примеров конфуцианского восстановления смысла в период раннего Нового времени. Достаточно сказать, что столь очевидная заинтересованность в языке в конфуцианских сочинениях отражала как серьезный отход от того, что они считали пустой болтовней буддистов, особенно школы дзэн, так и заботу об установлении понятийных основ для хорошо организованного общества. Необходимость в защите целостности языка постепенно утихла в силу того, что японские мыслители все больше признавали важность слов и их значения для философского анализа. Это усилило акцент на лингвистической истине и значении как средств для обеспечения политического строя — акцент, который сохранил актуальность и в Новом времени.
Метафизика
Важным вкладом неоконфуцианства в философское сознание раннего Нового времени в Японии было его метафизическое обоснование мира как всецело реального. Ранее в период Токугава Хаяси Радзан встал во главе японских теоретиков, которые не раз признавали — в том или ином варианте — метафизические установки, синтезированные Чжу Си в поздний период династии Сун в Китае. По сути, данная метафизика объясняла реальность посредством двух начал: ри (яп. ri, «принцип» или «паттерн») и ки (яп. ki, «порождающая сила»). Ри относили к рациональному и нравственному порядку вещей в целом, а также к каждой отдельной вещи в терминах ее частных характеристик. По мнению Радзана, существует ри каждого аспекта бытия, делающее все частные характеристики такими, какие они есть в действительности. В то же время в ри присутствует общее, универсальное начало, которое определяет бóльшую сферу общности через потенциальное бытие. Так, человеческую природу, которая определяет всех людей как людей, называют ри, указывая, что рациональный порядок, неотъемлемый для человечности, есть нечто разделяемое всеми, общее. Однако, что еще важнее, у ри есть нормативная, моральная сторона, которая делает его этическим аспектом существования наравне с рациональным. В случае человечества, а также практически всех десятков тысяч вещей космоса, ри определяется как моральное благо. В случае человечества это утверждение означает благую природу людей. Рассматриваемое с позиции всех вещей, существующих между небом и землей, благо ri означает, что мир как таковой тоже благой в этическом отношении — как по природе, так и в рамках своего потенциального бытия. Несомненно, зло вмешивается, однако оно не представляет собой первоначальное состояние и необязательно знаменует окончательную судьбу вещей.
Другой компонент реальности — ки — относится к субстанциальной, созидательной реальности всего, что существует в мире. Ки — жизнеутверждающая и преобразующая составляющая всего, что существует, включая твердые, жидкие и газообразные предметы. Ки описывается по-разному в плане своей чистоты или замутненности, но оно неизменно пребывает в существующих вещах в качестве их субстанциального бытия. Проще говоря, без ки не существует ничего. В определенном отношении неоконфуцианские философы, такие как Чжу Си и Радзан, утверждали, что ки представляет собой материал реальности, тем самым возражая буддистам, которе полагали, что все вещи нематериальны или пусты. Хотя неоконфуцианцы признавали, что вещи не всегда таковы, какими кажутся, они обычно утверждали, что существует субстанциальная основа даже иллюзорной природы вещей.
В целом Радзан и другие неоконфуцианские философы, признававшие дуальность ри и ки, добавляли, что без ки не может существовать ри, и наоборот. В реальности два начала абсолютно неразделимы. Моменты неопределенности при анализе этих двух понятий все же были, в особенности когда Радзан, следом за длинной чередой неоконфуцианских философов, включая самого Чжу Си, подчеркивал первенство ри над ки. Но едва об этом заговорили, то тут же стали опровергать, настойчиво добавляя, что одно не может существовать без другого. Тем не менее поздние критики более стандартного направления неоконфуцианства редко обходили возможность пространно опровегать утверждения тех, кто отдавал ри первенство над ки.
Одним из таких критиков был Ито Дзинсай. Легко было бы заключить, что поскольку его взгляд отличался от мнений традиционных неоконфуцианцев, таких как Чжу Си и их японские представителей, в том числе Радзана и других, то сам он не являлся неоконфуцианцем. Несомненно, Дзинсай не относился к ортодоксальным неоконфуцианцам в духе Чжу-Си. С другой стороны, быть неоконфуцианцем вовсе не значит соглашаться во всем с Чжу Си. В самом деле, неоконфуцианцы нередко без конца критиковали друг друга, оставаясь тем не менее неоконфуцианцами. Сомнение, вопрошание и суровая критика всегда находились в самом центре неоконфуцианства как философского движения. Можно считать, что добавление Дзинсаем метафизики ки и ри наряду с его критическим несогласием с Чжу Си касательно первенства одного над другим превратило его в образцового неоконфуцианца. Конечно, оснований для систематической метафизики, утверждаемой Дзинсаем, в любом из древних текстов, особенно в «Лунь юй» и «Мэн-цзы», было мало, иначе бы он сослался на них. В этом случае общее представление о Дзинсае как философе «древнего учения» (kogaku), который попросту отвергал неоконфуцианство, некорректно.
Дзинсай выступал не столько за дуализм порождающей силы и принципа, сколько за внешний монизм ки, который гласит, что помимо ки ничего не существует. Тем не менее Дзинсай не отрицал, что ри существует в мире: скорее, он просто ставил ри в подчинение ки, предполагая, что когда существует только ки, ри пребывает в ки. Помимо своей встроенности в ки, однако, ри не обладает ни первенством, ни каким бы то ни было независимым онтологическим статусом. Ри целиком содержится в ки. Заявляя это, Дзинсай действительно менял баланс сил в более ортодоксальной, хотя часто неоднозначной неоконфуцианской метафизике, уводя от ее более привычной двусмысленности, неуверенно выступающей за своего рода априорный статус ри и более прямолинейно настаивающей на монизме порождающей силы.
Вывод Дзинсая о явно выраженной подчиненности принципа порождающей силе отрицал довольно традиционный неоконфуцианский тезис, согласно которому человеческая природа сведена воедино в нравственно доброй ри. Дзинсай делал акцент не столько на универсалистском утверждении благой человеческой природы, сколько на разносторонности природы человека — его врожденной предрасположенности к спектру добра и зла. Не приходится и говорить, что Дзинсай рассматривал заявление Чэн-Чжу о том, что человеческая природа представляет собой принцип, или ри, как абсолютно ошибочное. Как бы там ни было, с точки зрения Дзинсая, ри, которая в письменном виде выглядит как прожилки в куске нефрита, считалась «мертвым словом», относящимся к неодушевленному порядку, обычно не связанному с жизненностью человеческого мира. В противовес ри Дзинсай восславил путь (michi) как «живое слово», символизирующее динамизм человеческой деятельности.
И Дзинсай, и Сорай выступали с критикой неоконфуцианского метафизического понятия принципа. По их представлениям, что будучи словом с древними и потому обоснованными конфуцианскими корнями, ри также является термином, выведенным отчасти из даосских, отчасти из буддийских рассуждений, а потому его применение в неоконфуцианских обсуждениях нарушает чистоту исконного конфуцианского учения, будь то из-за неведения или же невнимания к последнему. Нормой в этом смысле для Дзинсая предположительно служил лексикон «Лунь юй» и «Мэн-цзы», тогда как для Сорая это были более древние «Шесть канонов». Несмотря на их расхождения относительно древности, которую следует рассматривать в качестве источника достоверных философских рассуждений, оба сходились во мнении, что принцип был ее проблемным элементом, а потому его не следует наивно выделять в метафизических дискуссиях.
Невзирая на критику Дзинсая и Сорая, метафизика ри и ки завоевала определенную популярность в философии к концу раннего Нового времени, особенно в среде ортодоксальных неоконфуцианцев. Несмотря на частые корректировки в пользу либо одного, либо другого, дуализм субстанциальной, энергийной, порождающей силы и рационального, этического порядка выглядел привлекательным и достаточным объяснением многообразия опыта. Неудивительно, что в период Мэйдзи и ри, и ки использовались в ряде неологизмов для соотнесения с терминами западной философии и отраслей науки в переводе на японский. Один из примеров — слово «логика», ронри (яп. ronri). Будучи взятым как два слова, а не как одно, ронри означает «обсуждения (рон) принципа (ри)», то есть типичную неоконфуцианскую деятельность.
Сомнение и критический дух
Изречения неоконфуцианских философов раннего Нового времени в Японии прежде всего отличает то, сколь важное значение придается роли сомнения в познании. Китайские философы периода династии Сун — от Чжан Цзая (1020–1077) до Чжу Си — подчеркивали необходимость сохранять скептический настрой относительно собственных достижений в занятии философией. В Японии скепсис обрел выдающихся приверженцев. Сначала в лице Хаяси Радзана, одного из первейших и наиболее последовательных сторонников неоконфуцианства, и позднее — Кайбары Эккэна (1630–1714), который до конца остался убежденным неоконфуцианцем, однако был одним из тех, кто наиболее последовательно отстаивал философское значение сомнения в период раннего Нового времени. У Радзана и Эккэна скептицизм никогда не был самоцелью, скорее, он представлял собой веху на пути к более основательным заключениям при рассмотрении философских проблем и в общем контексте осознанного взаимодействия с миром.
Один из наиболее известных текстов Эккэна — «О великих сомнениях» (Taigiroku) — является изложением его очевидных сомнений в достоверности учения Чжу Си. Эккэн начинает свою работу с цитаты из Лу Сяншаня (1139–1192), современника Чжу Си, который замечал: «При обучении человеку следует беспокоиться, когда у него нет сомнений. За сомнениями следует продвижение. В итоге он познает что-то». Примерно в том же духе приводил доводы в пользу сомнения и Чжу Си: «Сильно сомневающиеся добиваются большого продвижения. Мало сомневающиеся добиваются малого. Не имеющие сомнений не достигают ничего». Такие замечания относительно необходимости сомнения и его разрешения неоднократно цитировались и пересказывались Радзаном, Эккэном и рядом других философов, стремившихся достичь высших ступеней философской убежденности или даже достоверности в отношении своих взглядов.
Одной причиной для привлечения сомнения, высказанного неоконфуцианцами, видимо, было их осознание того, что многие неоконфуцианские догмы, особенно метафизические, были весьма беспрецедентными. Впервые услышав такие новые идеи, ученики могли задаться множеством вопросов еще до признания их. Таким образом, неоконфуцианцы обычно советовали ученикам задавать вопросы и критически реагировать на моменты, вызывающие у них сомнения. При таком подходе у учеников неоконфуцианского направления эпохи раннего Нового времени определенно развивался критический дух, так часто ассоциируемый на Западе с философией как дисциплиной. Вряд ли можно сомневаться в том, что обстоятельная критика неоконфуцианского мышления, столь распространившаяся в период раннего Нового времени, отчасти была результатом привлечения скепсиса, поддержанного сторонниками неоконфуцианства. В отличие от закостенелой и неменяющейся ортодоксальной системы, которая едва ли допускала вопросы и сомнения, неоконфуцианство активно привлекало скепсис как необходимое условие продвижения в познании.
Этика
Конфуцианская философия в Японии — в эпоху древности, Средневековья и раннего Нового времени — часто упрощенно представляется как приучающая к преданности и благонадежности — качествам, выгодным для авторитарных правителей и послушных подданных, а также военачальников и их самурайских сторонников. Несомненно, преданность и благонадежность были неотъемлемой частью конфуцианской этики, однако не менее важными были более универсальные нравственные установки, например, на человечность (кит. ren, яп. jin). Человечность описывалась по-разному, однако наиболее часто она связывалась с предписанием «не делай другому того, чего не желал бы себе». Человечность можно вправе считать квинтэссенцией всех конфуцианских и неоконфуцианских добродетелей. Когда неоконфуцианцы подчеркивали древнее и фундаментальное значение человечности как «золотого правила», они прибавили к нему следующее содержание: истинная человечность ведет к мистическому слиянию со всем существующим.
Начиная с Мэн-цзы и далее приверженность к ги часто определялась как готовность человека пожертвовать жизнью, если сочетание реализации ги и продолжения существования данного человека становилось невозможным. Один из самых известных споров периода Токугава случился вокруг инцидента, имевшего место в 1703 году касательно сорока семи самураев, которые остались без господина (то есть ронина, яп. rônin) из-за того, что сёгун заставил его совершить самоубийство. Вопрос заключался в том, действовали ли ронины в соответствии с ги, совершая месть человеку, который изначально толкнул их умершего господина пойти на преступление, приведшее к тому, что его приговорили к самоуничтожению. Ясно, что дело касалось не правомерности действий — ослушались ли ронины закона или нет, — а морали: основывались ли их действия на чувстве правоты и справедливости? Безусловно, мнения разделились, однако широкая известность спора и его большое влияние показывают, насколько неотъемлемыми и существенными факторами стали неоконфуцианские нравственные понятия, такие как ги, в языке публичных обсуждений в Японии раннего Нового времени.
Сознание
Неоконфуцианцы раннего Нового времени как правило считали сознание хозяином тела. Все действия тела находятся под контролем сознания. Будучи сплавом ри (принципа) и ки (порождающей силы), сознание может считаться хозяином тела благодаря ясному, незамутненному уму. Благодаря присутствию ри внутри него сознание изначально благое. Хотя зло может вмешаться в его активность, изначальное состояние сознания — нравственная доброта.
Неоконфуцианская позиция может казаться не особенно продуманной, пока мы не рассмотрим противоположную буддийскую позицию. А именно: некоторые буддисты считали, что сознание в сущности пусто и в обыденном познании представляет собой обитель иллюзий и неведения. Вместо того, чтобы опровергать представления об обыденном сознании как источнике заблуждений и отстаивать понимание сознания как «не-сознания», неоконфуцианцы стремились описать его как реальный, субстанциальный предмет, в котором пребывают доступные для восприятия этические и рациональные принципы, позволяя человечеству познавать существующее и отличать правильное от неправильного. Получаемое благодаря ему знание считалось не иллюзорным или нереальным, а, скорее, настолько реальным, насколько это вообще возможно. Поскольку принципы, которые пребывают в сознании, совпадают с теми, что присутствуют во внешнем мире, то сознание становилось основанием для мистического союза со всем существующим.
Часто о сознании рассуждали в связи с исходящими из него чувствами. Большинство неоконфуцианцев считали, что человеческие чувства — удовольствие, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и желание — исходят из сознания при его столкновении с объектами. В той степени, в какой чувства выражаются в соответствии с принципом, они считаются естественным продуктом сознания. При недостаточном или избыточном проявлении чувства считаются негативными и нуждающимися в контроле. Чтобы дать сознанию овладеть собой надлежащим образом, неоконфуцианцы иногда высказывались в пользу практики, схондной с дзэнской, — а именно «сидения в тишине». Будучи, в сущности, медитацией на тему изначальной моральной природы сознания, сидение в тишине направлено на осознание спокойствия и безмолвия сознания до его вовлечения в мир деятельности. Последний обычно рассматривался как источник перевозбуждения, способного легко отвлечь или исказить сознание. При надлежащей практике сидение в тишине способствовало бы участию в любой деятельности без излишних или недостаточных эмоциональных реакций. Такое сознание считалось хорошо управляемым в соответствии с золотой серединой.
Неоконфуцианские критики, такие как Ито Дзинсай и Огю Сорай, возражали против описания сознания в терминологии «безмолвия» и «покоя», заявляя, что эти атрибуты отсылают назад к буддизму или даосизму, а не конфуцианству. К их критике прислушивались, и тем не менее предшествующие неоконфуцианцы-ортодоксы, такие как Хаяси Радзан, настаивали, что конфуцианский смысл слов «безмолвие» и «покой» был совершенно иным по сравнению с буддийским и даосским. По словам Радзана, в сущности, сознание — это активное сущее, предназначенное для непрерывного взаимодействия с миром в целом, а посему «безмолвие» служит средством поддержания такого взаимодействия, а вовсе не выступает самоцелью.
Человеческая природа
Одним из многих терминов, использовавшихся в восточноазиатских философских дискуссиях для общего обозначения идей философов Сун из традиции Чэн-Чжу и их представителям в поздних династических периодах, была «школа человеческой природы и принципа» (яп. seirigaku, кит. xinglixue). Соединение двух слов — «человеческая природа» (кит. xing, яп. sei) и «принцип» (кит. li, яп. ri), — помимо прочего, отражало неоконфуцианское отождествление человеческой природы с принципом. В Японии такая позиция поддерживалась ортодоксальными сторонниками учения Чэн-Чжу, такими как Хаяси Радзан, а позднее Ямадзаки Ансаем и его последователями. Во многом их концепции человеческой природы можно расценивать как эгалитаристкое утверждение совместно разделяемой всеми людьми природы. Грамматика большинства высказываний, отстаивающих тождество человеческой природы и принципа, поддерживает это прочтение: не остается сомнений, что ортодоксальные мыслители Чэн-Чжу утверждали единство человеческой природы всех людей и равенство человеческой природы и принципа. При объяснении множества различий между людьми они ссылались на разную степень ясности или замутненности порождающей силы ки в конкретных индивидах.
Этический оттенок, приписанный человеческой природе, был производен от понимания принципа Чэн-Чжу как в позитивном, так и нормативном смысле. Принцип не только указывал, чтó «есть», но и давал понять, чтó «должно быть», в отдельной единице существования. Во всех случаях, включая человеческую природу, принцип считался морально благим. Таким образом, на макрокосмическом уровне повседневный мир рассматривался не так, как видели его буддисты, — как иллюзию, заблуждение и страдание, — а как благодатное и морально благое творение небес и земли, приводящее к непрерывному произведению и воспроизведению десятков тысяч вещей в мире, в котором мы живем. На уровне же микрокосма вместо акцента на человеческих мыслях и чувствах как свойствах привязанностей, ведущих к одному за другим болезненным перерождениям, ортодоксальные неоконфуцианцы раннего Нового времени рассматривали человека как морально благого в силу самой человеческой природы. Люди, которые обладали чистой порождающей силой, судя по всему, лучше понимали и проявляли доброту своей природы; у тех же, в ком преобладала замутненная порождающая сила, это получалось хуже. Тем не менее с помощью образования и стараний все люди способны совершенствоваться, чтобы прийти к полному осознанию изначальной доброты человеческой природы. Человеческий идеал мудрости, больше искомый, нежели осуществленный когда-либо, представлялся таким идеалом, достичь которого при достаточном усердии могут все.
Объяснение человеческой природы ортодоксальными неоконфуцианцами нередко находило отклик в Японии раннего Нового времени, особенно в философски просвещенных кругах. Тем не менее в таких кругах чаще всего вращались представители высших слоев общества, наследники почтенных родов. Верхушку составляли аристократы древней императорской столицы Киото, включая семью императора. Тем не менее в период Токугава аристократию почитало и одновременно контролировало самурайское руководство, проводившее силовую политику. Помимо аристократии, которая была в значительной степени ограничена древней императорской столицей, на верху находились самураи. Ниже располагались крестьянское сословие, ремесленники и, наконец, торговцы. Синтоистская и буддийская церкви, часто по признаку династии, почитались как находящиеся за рамками светской общественной системы. Таким образом, в эпоху раннего Нового времени эгалитаризма в действительности было предельно мало.
Размышляя о повседневном неравенстве, Ито Дзинсай подверг сомнению ортодоксальные неоконфуцианские представления, заявив, что человеческая природа является попросту физической предрасположенностью (kishitsu), получаемой каждым человеком при рождении. Давая такую формулировку, Дзинсай по существу соглашался с Дун Чжуншу (179–104 до н.э.), который определял человеческую природу как «врожденную предрасположенность» каждого человека. Однако Дзинсай также разделял идеи Чжоу Дуньи (1017–1073), философа традиции Сун, которого часто называют ранним приверженцем неоконфуцианской философии, нашедшей свое полное обоснование в учении Чжу Си. Чжоу Дуньи различал пять природ, в том числе нравственную силу, безнравственную силу, нравственную слабость, безнравственную слабость и золотую середину, опирающуюся ни на силу, ни на слабость.
Дзинсай не стремился развить точку зрения Чжоу настолько, чтобы дойти до признания многообразия человеческих природ. По собственному социальному статусу Дзинсай, ученый по профессии, был горожанином, предположительно из семьи торговца. Ортодоксальная неоконфуцианская эгалитарная позиция шла вразрез с официальной иерархией, однако такой была и точка зрения Дзинсая в том смысле, что он придерживался представления о гораздо более индивидуализированном разнообразии, чем допускала официальная иерархия. Хотя теория Дзинсая о человеческой природе как врожденной индивидуальной физической предрасположенности была переформулирована Огю Сораем, она не получила широкой поддержки в Японии раннего Нового времени. Несмотря на степень их расхождения с реальностью, конфуцианские заявления о человеческой природе в период раннего Нового времени были склонны вторить неоконфуцианскому представлению, согласно которому человеческая природа как принцип (ри) является морально благой.
Политическая мысль
В конфуцианском философствовании всегда присутствует политический оттенок. Конфуций первым попытался предложить свое учение правителям, полагая, что они выдвинут эффективное решение относительно политического кризиса тех времен. Идеал человека, превозносимый Конфуцием, заключался в цзюнь-цзы (кит. junzi, яп. kunshi), что означает «сын правителя» или «государь». (Некоторые переводят его как «джентльмен», «благородный муж» или «пример для подражания».) Однако для Конфуция истинный государь не становился таким по рождению. Напротив, Конфуция восхищал человек, который сам мог воспитать себя так, что становился воплощением множества достоинств, ассоциируемых с высоким происхождением. В человеке голубых кровей, который пренебрегал задачей самовоспитания, Конфуций видел мало пользы. По мнению Конфуция, такой человек едва ли был достоин положения, которое было ему обеспечено с рождения. Такое понимание «истинного государя» подразумевало, что лица высокого происхождения посредством самовоспитания должны постараться заслужить то уважение и право пользоваться властью, которые были связаны с их положением.
Политические идеи Мэн-цзы основывались на представлении о том, что правление должно быть человеколюбивым и поддерживать наилучшие интересы человечества. В этом контексте правитель определялся как отец народа, а его подданные — как его дети, что подчеркивало значение, которое ему следовало придавать их благосостоянию. Мэн-цзы объяснял успешное правление как результат завоевания сердец и умов народа в целом, считая, что без народной поддержки правление не может быть эффективным. Обращаясь к вопросам о казни тиранов в прошлом, Мэн-цзы заявлял, что случаев цареубийства не было. Напротив, те, кто был предан казни, были обычными преступниками, которые утратили легитимность в силу серьезного нарушения прав народа. Конечно, подразумевалось, что правители, которые совершили те же преступления, могут быть законным образом убраны тем же способом.
С учетом условной перспективы, которую конфуцианство утверждало относительно правления, неудивительно, что конфуцианские учения имели тенденцию к распространению в первую очередь среди правящей элиты на протяжении большей части истории Японии. К тому же, получи эти идеи большее распространение, их политические последствия могли бы обернуться еще бóльшими испытаниями для стоящих у власти, чем произошло в действительности. Еще более проблематичными, чем взгляды Конфуция и Мэн-цзы, были мысли, изложенные в «Шу-цзин» относительно понятия тянь мин (кит. tianming, яп. tenmei) — «небесный мандат». Согласно многочисленным отрывкам в «Шу-цзин», если правитель неоднократно пренебрегал заботой о народе, небеса могли выдать мандат на правление новой династии, которая зарекомендовала себя как проявляющая заботу о народе. В данном процессе народ играл решающую роль. В одном отрывке даже говорится, что небеса и народ почти одно и то же: «…небо видит глазами народа и слышит ушами народа».
Нет сомнений, что это понятие проникло в Японию так же, как и классическая китайская литература. То, что понятие тянь мин не получило широкого распространения, свидетельствует об ограниченности конфуцианского политического учения, в частности, о его предназначенности правящей элите, а не для просвещения народа в целом. Тем не менее следует добавить, что по мере распространения конфуцианского учения даже крестьянство стало понимать основы конфуцианской политической мысли и выражать четкие ожидания касательно человеколюбивого правления. Крестьянские восстания в эпоху раннего Нового времени часто исходили из представления, что добродетельные и человеколюбивые правители должны защищать справедливые интересы общества в целом. Когда подобные ожидания не оправдывались, крестьяне нередко выражали недовольство с помощью протеста и бунта.
В сравнении с древними основополагающими сочинениями неоконфуцианская политическая философия была гораздо больше заинтересована в проекте, который гарантировал бы понимание правителем преимуществ самовоспитания. Один из наиболее близких к теме текстов — «Великое учение» (кит. Daxue, яп. Daigaku) — дает краткий обзор предпочтительного образа действий правителя в случае, если тот желает показать выдающуюся добродетель, и отмечает, что проект, по сути, подразумевает самовоспитание. Важно, чтобы правитель понял необходимость прежде всего правильной настройки сознания и искренности мыслей. Для осуществления проекта он должен расширить понимание вещей, изучая и исследуя их. Если стоящие у власти могли бы развивать самих себя таким образом, то они смогли бы умело организовать и семью, и государство, а Поднебесная наслаждалась бы великим покоем. Действенное правление, таким образом, достигается самовоспитанием стоящих у власти. Это стало главной политической философией, проповедуемой ортодоксальными неоконфуцианцами, например, Хаяси Радзаном, Ямадзаки Ансаем и их последователями в период Токугава в Японии.
Наибольшей критике этот подход подвергся со стороны Огю Сорая. Согласно Сораю, ортодоксальная неоконфуцианская точка зрения была непрактичной, так как она опиралась на допущение, что человеческое сознание подвластно себе. По мнению Сорая, самоконтроль был попросту невозможен, ведь он влекло за собой разделение сознания на две составляющие — сознание управляющее и сознание управляемое. Вместо того, чтобы ожидать от сознания контроля сознания, Сорай ссылался на «Книгу истории» («Шу-цзин») с ее наставническими идеями о применении ритуалов «ранних царей» как средств управления не только сознанием, но и общественно-политическим строем в целом. Сорай заявлял, что его философия основывается на правильном прочтении древних классических текстов, особенно «Шу-цзин», хотя очевидно, что многое он оставил без внимания. В частности, он обходит молчанием понятие тянь мин даже несмотря на то, что оно является самой сутью «Шу-цзин». Сорай также превозносил ритуалы и музыку, признавая их эффективность для правления, но никогда подробно не объяснял, что под ними подразумевалось. К тому же он неоднократно хвалил «ранних царей» как единственно подлинных мудрецов всех времен. Мудрость ранних царей заложила путь общественной и политической организации, от которого не следует отклоняться. Сорай определял этот «путь мудрых» как состоящий из ритуалов и музыки, а также законов и бюрократических форм, необходимых для хорошего правления.
В конечном счете, по всей видимости, политическая философия Сорая была предназначена для восхваления тех, кто позднее в истории выступал представителем ранних царей. По его мнению, это была правящая элита самураев его времени, которая ввела ритуалы, законы и учредила административную власть как средство обеспечения величайшего мира и процветания. Безусловно, Сорай мало верил в эффективность внутренних средств самоконтроля. Вместо этого он последовательно отстаивал внешнюю стратегию — ритуалы и музыку, уголовный закон и административную власть — наравне с утилитарной политикой как средство обеспечения всеобщего процветания.
Хотя политическая философия Сорая являлась одной из наиболее последовательных доктрин, предложенных в раннем Новом времени, она никогда не была полностью принята как философия правящей элиты, несмотря на то, что подобное, по всей видимости, входило в открытые намерения Сорая. В итоге его политическая философия была скорее принята как неортодоксальная альтернатива, во многом схожая со взглядом Сюнь-цзы в древнем Китае.
Образование
Наиболее значительным вкладом неоконфуцианства в культуру раннего Нового времени в Японии стало его особое внимание к образованию практически на всех уровнях. Ортодоксальное неоконфуцианство рассматривало обучение как один из главных методов самовоспитания, способствующих полной реализации морально благой человеческой природы индивида. На высшем уровне образование и обучение считались неотъемлемыми составляющими установления хорошо управляемого государства и мира во всем мире.
Согласно Чжу Си, обучение преимущественно состояло из процесса подражания. Такое мнение об обучении было очень популярно в Японии раннего Нового времени даже в среде неортодоксальных мыслителей, например, Ито Дзинсая и Огю Сорая. Примером, который Дзинсай использовал для объяснения обучения как подражания, стала каллиграфия. В обучении письму учитель служил для ученика примером, который затем последний должен был скопировать. Непрерывные усилия в подражании приводили со временем к пониманию и способности ученика тщательно выполнять задание.
В то время как практика обучения с помощью подражания стала популярной, среди философов раннего Нового времени велись споры по поводу основного предмета образования. Ортодоксальные неоконфуцианцы обычно подчеркивали широкое изучение древних классиков и исторической литературы, однако наиболее ценным для изучения они считали «Четверокнижие» и комментарии Чжу Си к нему. Отражением ценности, которую ортодоксальные неоконфуцианцы придавали образованию, стала первая из четырех книг — «Великое учение». Описываемая как «врата» ко всему последующему знанию, она предлагала ряд методов, которые нужно усвоить человеку для проявления выдающейся добродетели. В данном процессе исследование вещей служит подготовительным этапом. В ходе него наше понимание вещей становится полным, а наши мысли — искренними. В результате наши сознания исправляются. Вместе с тем происходит самовоспитание, человек становится способным управлять семьей, государством и приносить гармонию в мир.
Ортодоксальные неоконфуцианцы рассматривали «Великое учение» как труд для зрелых учеников. Чтобы сделать общество максимально образованным, были предложены тексты и для молодых умов, такие как «Начала обучения самурая». Неоконфуцианский акцент на образовании в Японии раннего Нового времени также привел к созданию программы обучения для женщин, о чем свидетельствует «Великое учение для женщин» (Onna daigaku), приписываемое Кайбаре Эккэну, а также «Начала обучения самурая» (Bukyô shôgaku) Ямаги Соко и другие труды по образованию для горожан и крестьян.
Неортодоксальные мыслители, такие как Дзинсай и Сорай, часто критиковали ортодоксальных неоконфуцианцев в вопросах, связанных с выбранными для изучения текстам. В частности, Дзинсай утверждал, что наиболее важные работы для учеников — это «Лунь юй» Конфуция и «Мэн-цзы». Существенно отстраняясь от традиции, Дзинсай выдвигал ряд доводов, пытаясь доказать — в текстологическом и философском отношении, — что «Великое учение» не является конфуцианским текстом. Признавая ценность изучения древних классических текстов, Дзинсай полагал, что изучения «Лунь юй» и «Мэн-цзы» в целом достаточно для серьезного образования.
Огю Сорай, напротив, подчеркивал эффективность изучения «Шести канонов». По его мнению, «Шесть канонов» содержали слова мудрых предшественников Конфуция. Он считал их изречения уникальными, поскольку они помогали человечеству постигать сознания самих мудрецов. Сорай ценил тексты, подобные «Лунь юй», но, несомненно, куда меньше. Он полагал, что Конфуций не является в полной мере мудрецом, во всяком случае, не в строгом смысле слова. Мудрецами, на его взгляд, были мыслители древности, указавшие основной путь к общественно-политической цивилизованной жизни — путь, который позже отстаивал Конфуций как носитель этого знания. Однако намного больше, чем обучение по книгам, Сорай ценил обучение с помощью практики, ведущей по пути. Благодаря такому виду обучения через действие от учеников можно было ожидать постепенного, но полного освоения практического знания: знания о том, как сделать что-то (знания-как), а не знания о том, что нечто имеет место быть (знания-что).
Быстрый рост образования в эпоху раннего Нового времени в Японии, продуктом которого в середине XIX века стал уровень грамотности, сравнимый с таковым в наиболее развитых западных странах, стало результатом целого ряда факторов, включая развитие массовой печати, учреждение школ в различных самурайских владениях и расцвет образовательных движений, связанный с японской литературой и культурой, крайне критически отзывавшихся о какой бы то ни было философии в духе Китая. Тем не менее в основании всего этого лежал разделяемый в целом как ортодоксальными, так и неортодоксальными мыслителями неоконфуцианский взгляд на образование, будь то практическое, дискурсивное или их сплав, считавшееся необходимым элементом жизни всех людей, которые могли надеяться на раскрытие своего полного потенциала.
Критика буддизма
Освобождение неоконфуцианства от господства учения дзэн стало возможным лишь в конце XVI — начале XVII вв. вслед за вторжением Тоётоми Хидэёси (1537–1598) на Корейский полуостров. В итоге в Японии появился ряд неоконфуцианских текстов, содержавших резкую критику буддизма. Так как антибуддийские взгляды в этих текстах оказали еще большее влияние в XVII веке, в неоконфуцианском дискурсе Японии все популярнее становилась тема взаимоотношений неоконфуцианства с буддизмом — позитивных либо негативных.
Одним из наиболее примечательных конфуцианских критиков буддизма был Ито Дзинсай (1627–1705), ученый, проживавший в Киото, который — что довольно важно — никогда не воспитывался и не обучался у буддистов. В своем обсуждении «пути» Дзинсай предполагал, что Будда верил в пустоту как истинный путь, а горы, реки и земля считались нереальными. В противовес Дзинсай очевидно высказывался в духе здравого смысла: веками небо и земля поддерживали существование жизни, солнце и луна освещали мир, стояли горы и текли реки, а птицы, звери, рыбы, насекомые, деревья и трава проживали и проживают свои жизни. С учетом данных свидетельств из феноменального мира Дзинсай задавал вопрос: как буддисты могли заявлять, что все есть пустота или ничто. Отвечая на собственный вопрос, Дзинсай пояснял, что их акцент на пустоте исходил из их стремления удалиться в горы и сидеть там в тишине, опустошая свои сознания. Таким образом, по его словам, теоретические принципы, утверждаемые буддистами — пустота и ничто — не существуют ни в этом мире, ни за его пределами.
Взамен буддийской пустоты, которая, как он утверждал, не имела под собой оснований, Дзинсай предлагал принципы любви и социальных связей, которые прослеживаются во всех аспектах жизни от человечества до бамбука, деревьев, травы, насекомых, рыб и даже песчинок. Дзинсай считал, что буддийские принципы не находят подкрепления ни на одном уровне существования, и отбрасывал их как ересь, абсолютно не имеющую опоры в реальности.
Дзинсай придерживался взгляда, что конфуцианский путь — это образ нравственного поведения людей в повседневной жизни. Поступая так, он уверял, что конфуцианский путь — естественный и универсальный, поскольку он понятен в любом уголке мира как неизбежный путь для всех. Поскольку же он всегда был и остается истиной на все времена, Дзинсай говорил просто о «Пути». Развивая свою точку зрения, он пояснял, что конфуцианский путь существует не просто потому, что ему учат. Его жизнеспособность естественна и универсальна. Учение буддизма, напротив, существует лишь потому, что почитается отдельными людьми. Если бы эти люди исчезли, говорил Дзинсай, исчез бы и буддизм. Делая акцент на недостатке практичности, он замечал, что даже когда буддийские учения принимаются, они не приносят никакой пользы. Если их отбросить, люди ничего не потеряют. Хуже всего то, отмечал Дзинсай, что когда мир следовал учению древних конфуцианских мудрецов, он пребывал в гармонии, а со времен господства буддизма мир подвергся великому хаосу и беспокойству. Таким образом, отвержение Дзинсаем буддизма основано, по крайней мере отчасти, на прагматических соображениях: он подчеркивал, что в лучшем случае от буддизма нет никакой выгоды, а в худшем — он привносит в мир хаос и беспорядок.
Дзинсай также критиковал буддистов за отход от морали, в частности, от праведности и справедливости (ги). Хотя он признавал, что буддисты учили добродетели сострадания, при этом Дзинсай добавлял, что в конечном счете они превозносили нирвану в качестве истинного пути. Это приводило к пренебрежению ими праведности, а не ее признанию как «великого пути Поднебесной».
Дзинсай подчеркивал, что сознание считалось обителью моральных чувств, которые приводят к действию добродетели человечности и праведности. Высказываясь на этот счет и одновременно подчеркивая жизнедеятельность сознания, Дзинсай с воодушевлением разделял взгляды Мэн-цзы. Дзинсай резко критиковал буддистов и всех, кто следовал за ними в вопросе о пустотности сознания. Он также выступал против буддийской убежденности в том, что сознание нужно очистить, лишить его человеческих желаний, сделать его пустым, как яркое зеркало, или спокойным, как неподвижная вода. Дзинсай отвергал такие образы как идущие вразрез с динамичным подходом к нравственному действию, который поощряло конфуцианство. С его точки зрения, нравственный поступок совершается благодаря моральным чувствам и не может существовать отдельно от страстей. Поскольку, по мнению Дзинсая, буддисты стремились избавиться от переживаний на их пути к нирване, их взгляд на сознание был в корне ошибочным.
При всей его критике буддизма, тем не менее, в одном из приложений к «Значению слов» Дзинсай пояснял, что лучший способ доказать несостоятельность буддизма и ересей в целом заключался не в диспутах, а в демонстрации конфуцианского пути нравственного взаимодействия с миром в повседневной жизни. Споры, доводы и риторика представляли собой, по мнению Дзинсая, не более чем пустые формулировки, отражающие погружение в пустоту, присущую буддийским учениям, которые они стремились опровергнуть.
В данной связи стоит добавить, что конфуцианцы периода Токугава часто стремились превзойти друг друга в своем противостоянии буддизму. В одном из его наиболее терпимых моментов Дзинсай написал прощальное письмо буддийскому монаху Доко (род. 1675?), который собирался покинуть Киото, закончив там обучение. В письме, которое Дзинсай, несомненно, никогда не думал выдавать за исчерпывающее изложение своих взглядов на буддизм, он превозносил успехи Доко в изучении конфуцианства. В одном месте Дзинсай снисходительно добавлял: «С точки зрения ученых, и конфуцианство (Ju), и буддизм (Butsu) определенно существуют. Однако, с позиции неба и земли, по большому счету не существует ни конфуцианства, ни буддизма. Скорее, есть всего лишь один путь, и всё». Опубликованное позднее письмо Дзинсая ввергло в шок многих конфуцианцев, гораздо более непреклонных в своем противостоянии буддизму. Один ученый — Сато Наоката (1650–1719) — даже решил повторно опубликовать письмо Дзинсая, сопроводив комментариями, резко критикующими как буддизм, так и Дзинсая. Последний стал объектом гнева Наоката, поскольку Дзинсай, по фанатичному мнению Наоката, проявил недостаточную враждебность к «пагубному явлению», каковым он считал буддизм.
Конфуцианские рассуждения о буддизме в то время были гораздо сложнее, чем можно предположить, если судить по содержанию одной только критики Дзинсая. Но очевидно, что на протяжении раннего Нового времени в японской истории мысли конфуцианство и буддизм представляли собой весьма различные философские силы, причем больше всего критики и неприязни исходило со стороны конфуцианцев. Как только конфуцианское учение достаточно окрепло и получило самостоятельную поддержку, критика пошла на спад. Огю Сорай, к примеру, редко обсуждал буддизм, но когда он это делал, его замечания были критическими. Тем не менее чувствуется, что Сорай и его аудитория не видели нужды в том, чтобы подвергать буддизм постоянной конфуцианской критике. Для одних в определенные времена был актуален буддизм, а для других — конфуцианство. Конфуцианство, по всей видимости, возникло в большей степени как светская этика, исполнявшая ясную и четкую роль в общественно-политической жизни и для многих означавшая не только независимость, но даже философское господство.
Духи и призраки
Неоконфуцианские философские дискуссии, зачастую включавшие в себя пространные объяснения «духов и призраков» (кит. guishen; яп. kishin), заметно отходили от древнего конфуцианства. Конфуций уклонялся от подробного обсуждения духовных вопросов, даже когда его специально спрашивали об этом. К чему обращаться к потустороннему миру, спрашивал Конфуций, когда мы еще не усвоили путь человечности в этом мире? Конфуций не относился с пренебрежением к ритуалам, посвященным духам, однако подчеркивал, что предпочитает держаться от них на почтительном расстоянии. И все же, если ему доводилось присутствовать на подобной церемонии, он вел себя так, будто духи действительно там находились. Нежелание Конфуция обсуждать духовное измерение хоть сколько-нибудь подробно привело ко множеству спекуляций насчет его атеизма или же почтительного агностицизма.
Однако из-за буддизма конфуцианцам стало невозможно игнорировать тему духов и призраков. Буддийская литература подробно описывала Западный рай, или Чистую Землю, а также множество кругов ада, где прислужники ада наказывали грешников. Графические изображения духовного мира, рая, ада, демонов, алчущих духов и ангелоподобных бодхисаттв придавали рассуждениям бóльшую правдоподобность. В японском синтоизме также существовали свои традиции касательно духов, призраков, домовых и оборотней. Чтобы бороться с подобными идеями, неоконфуцианцы сформулировали собственные объяснения духовных феноменов, предложив более естественное обоснование видимой активности духов и призраков. Такие обоснования можно было рассматривать как граничащие с атеизмом или агностицизмом и, таким образом, согласующиеся с позицией Конфуция, по крайней мере в понимании некоторых. Тем не менее эти объяснения были гораздо пространнее, чем что-либо высказанное Конфуцием или его непосредственными предшественниками.
Одна из главных особенностей неоконфуцианских философских дискуссий на тему духов и призраков — их натуралистический метафизический характер. Вместо описания отдельных духов многие неоконфуцианцы вслед за Чэном И объясняли существование духов и призраков как «следы созидательных преобразований мира». В более конкретном смысле неоконфуцианцы часто толковали явления, принимаемые за духов и призраков, как «спонтанную активность двух порождающих сил» — инь и ян. По мере расширения или сжатия инь и ян якобы возникали духовные энергии — духи с помощью ян, призраки с помощью инь.
Описывая духов и призраков в метафизических терминах, которые в определенном смысле должны были «отделаться» от них, неоконфуцианцы также утверждали, что как инь и ян пребывают в реальности, так же пребывают в ней и призраки с духами. Духи — это силы расширения, а призраки — силы сжатия. Признавая взаимосвязь духов и призраков с миром в целом, многие неоконфуцианцы ассоциировали духов с небесами, весной и летом, утром, солнцем, светом, музыкой и т.п., а призраков — с землей, осенью и зимой, ночью, луной, тьмой, ритуалами и пр. В рамках подобного рассмотрения неоконфуцианцы не отрицали существования духов, но взамен утверждали, что все аспекты реальности пронизаны ими так же, как это, без сомнения, относится к инь и ян.
Закладывая основу для почитания предков, неоконфуцианцы обычно заявляли, что роду присуща общая порождающая сила, подразумевающая разделяемую духовность. Эта общая духовность передается по мужской линии в обрядах предков, исполняемых сыновьями в честь их отцов, дедов и т.д. В силу того, что общность рода считалась основополагающей для разделяемой духовной основы, неоконфуцианцы подчеркивали, что если семья брала приемного ребенка, то она должна была позаботиться о принятии в семью сына от мужчины — родственника отца, — чтобы приношения, предложенные приемным сыном, могли быть успешно приняты духами. Если усыновление происходило не по мужской линии семьи, то приношения семейным предкам на самом деле поддерживали семейную линию приемного сына, оставляя духов усыновившей семьи без должного внимания. В попытке ограничить масштаб распространившейся увлеченности спиритуалистическими движениями и практиками неоконфуцианцы в целом описывали любое участие в религиозном ритуале или церемонии, не имевших отношение к семье и роду, как бессмысленное и неуместное.
Одно из наиболее неортодоксальных неоконфуцианских объяснений духов и призраков дал Огю Сорай. В отличие от натуралистических описаний, предложенных большинством неоконфуцианцев, он подчеркивал целостность обоснований существования духов и призраков, выдвинутых древними царями-мудрецами. Сорай уверял, что поскольку древние цари говорили, что духи существуют, то они действительно должны существовать. То же относилось и к призракам, и к сонму других духовных единиц сущего. Подвергать сомнению существование духов и призраков, по мнению Сорая, значило проявлять неуважение к древним царям. Тем не менее упорство, с которым Сорай настаивал на безусловной вере в духов и призраков, было скорее исключением, и среди конфуцианцев в Японии раннего Нового времени она не была широко распространена.
Конфуцианство в нововременной Японии
Важное наследие конфуцианской философии в Японии Нового времени основывается на конфуцианском понимании философии истории. Очевидно, что переход от периода Токугава с политическим господством самурайского режима под руководством сёгуна к периоду Мэйдзи обещал по меньшей мере реставрацию императорского правления. Вместо признания того, что в истории наблюдается прогресс и постепенное продвижение к лучшему, конфуцианцы предпочитали усматривать идеалы в прошлом. Поэтому они зачастую выступали в защиту возвращения к воображаемому золотому веку как средству улучшения условий в настоящем. Конфуций сам отрицал свое новаторство и настаивал, что он лишь стремится передать идеалы прошлого. Хотя, возможно, он представлял свои труды как простую передачу знаний, Конфуций действительно стал новатором в революционном философском смысле. Политические преобразования, которые поспособствовали установлению императорского режима Мэйдзи, были типично конфуцианскими — во всяком случае, в их философском представлении как возврата к древней и предположительно более совершенной модели. В духе конфуцианства воспринимался и возврат к прошлому, который возвещал абсолютно новый исторический период, революционный для большинства аспектов жизни общества.
Одним из философских мыслителей, который стоял за реставрацией Мэйдзи — во всяком случае, что касается ряда вдохновленным их самурайских лидеров, поддержавших Мэйдзи против Токугавы — был конфуцианский ученый Ёсида Сёин (1830–1859). Он был потомственным наставником конфуцианского учения Ямаги Соко в княжестве Тёсю. В философском плане Соко больше всего известен работой «Фундаментальные положения учения мудрости» (Seikyô yôroku) — краткой, но резкой критикой ортодоксального неоконфуцианского мышления. В ней Соко отстаивал собственное понимание «Лунь юй». Переданный Сёину из школы Ямаги, а затем воплотившийся в образе мысли и действий учеников Сёина, например, Ито Хиробуми (1841–1909), революционера Тёсю, который стал государственным деятелем Мэйдзи, реставрационизм, лежащий в основании как конфуцианства, так и неоконфуцианства, отчетливо проявился в атмосфере реставрации Мэйдзи.
Тем не менее период Мэйдзи вскоре вызвал значительный поворот от традиционных схем в сторону заметно более западных. Это коснулось и философии, что, соответственно, привело к ослаблению конфуцианства. Однако важным моментом является то, что большинство лидеров Мэйдзи, продвигавших западные философские идеи, были воспитаны на конфуцианском учении. Ниси Аманэ (1829–1897), часто упоминающийся как отец западной философии в Японии, читал философские труды Огю Сорая, прежде чем начал изучать идеи Огюста Конта и Джона Стюарта Милля. Во время движения за права народа в 1870-х и начале 1880-х годов его защитники, такие как Накаэ Тёмин (1847–1901), нередко излагали свое понимание свободы, равенства и естественного права человека в терминах и понятиях, почерпнутых из конфуцианских рассуждений.
С поворотом к консерватизму и национализму в поздний период Мэйдзи философы, такие как Иноуэ Тецудзиро, выступали не столько за точное возвращение к конфуцианству как таковому, а к «национальной этике» (kokumin dôtoku), по определению Тецудзиро. Данная система учений основывалась главным образом на отдельных конфуцианских добродетелях, таких как преданность и сыновья почтительность. Тецудзиро также считается человеком, который проложил путь, хотя и в весьма националистском ключе, для истолкования конфуцианских учений раннего Нового времени в качестве направлений «философии», применив японский неологизм того времени — тецугаку (tetsugaku). Это слово, выбранное для придания лоска «философии», было намеком на китайскую литературу — «Шу-цзин», конфуцианский классический текст, где тецу (кит. zhi) означало «мудрость», проявленную древними китайскими мыслителями. В таком смысле «изучение мудрости», буквальное значение tetsugaku, стало таким же подходящим определением конфуцианского проекта, каким оно было для западной философии.
К сожалению, заявление Тецудзиро о традиционных формах философии, в частности, неоконфуцианских школах раннего Нового времени, существовавших задолго до внедрения западной философии, имело один тревожный побочный эффект. Он все больше превозносил статус конфуцианских представлений не как собственно конфуцианских, а как неотъемлемых составляющих сплава из национализма, империализма и милитаризма, взятого на вооружение японскими милитаристами в 1930–1940-х годах. В частности, в последние годы жизни Тецудзиро уделил особое внимание толкованию бусидо (bushidô) — «пути воина», одному из основных элементов «национальной этики». Тецудзиро выпустил столько сочинений на тему бусидо, что можно утверждать, что путь воина в гораздо большей степени был его изобретением, чем явлением, основанным на традиции.
После поражения Японии в 1945 году конфуцианские понятия стали восприниматься негативно в силу их печального применения Тецудзиро и другими философами-идеологами. Они обратили центральные этические понятия конфуцианской философии в учение о верноподданичестве императорскому государству и самопожертвовании ради прославления страны. Те конфуцианские философы, чьи сочинения были исполнены большего фанатизма относительно Японии, а потому легко цитировались, как это было в случае с Ямага Соко, который доказывал в своих многогранных философских трудах, что Япония, а не Китай, выступает истинным Срединное царство, впоследствии подвергнулись значительному пренебрежению в послевоенный период. Напротив, те ранние конфуцианцы, чьи произведения содержали критику Японии и хвалили Китай, например, Огю Сорай, были восстановлены из прежнего статуса парии в шовинистической Японии, приобретя право стать предметом исследований после войны. Однако, как правило, ввиду всеобщего восприятия конфуцианства любого сорта в большей степени как идеологии, но не философии (а это стало самым отталкивающим наследием его довоенной апроприации), конфуцианство чаще всего стало интерпретироваться просто как «мышление» (shisô) или «идеология» (ideorogii) типично «феодального» толка. В других странах, включая Китай, современные интерпретаторы изучают конфуцианство как живую философию непреходящего значения, тогда как японские ученые рассматривают его больше как исторический артефакт, а не проникнутую жизнью философию. В качестве альтернативы отделения философии в большинстве японских университетов продолжают по сей день раскрывать понятие «философия», подразумевая западную философию и уделяя мало внимания изучению конфуцианства в рамках дисциплины.
Одним выдающимся исключением стал относительно недавно открывшийся Центр философии Токийского университета (ЦФТУ). С момента его основания в 2002 году ЦФТУ стремится зарекомендовать себя в качестве международной площадки для обсуждения философских вопросов. ЦФТУ навряд ли преследует цель представить Японию как страну с древней традицией философского мышления, восходящей к японскому конфуцианству, однако выступает с поддержкой дискуссий на тему вопросов, относящихся к конфуцианству, а также статуса конфуцианства при рассмотрении любого аспекта японской философии. В этом смысле ЦФТУ — один из лидеров течения за восстановление понятий «японской философии» и «японской конфуцианской философии». Во многом то же можно отнести и к недавно учрежденному издательством Университета штата Нью-Йорк «Журналу японской философии» (Journal of Japanese Philosophy). Наряду с деятельностью Центра культурного и технического обмена между Востоком и Западом и факультета философии Гавайского университета, ЦФТУ и «Журнал японской философии» обещают всячески способствовать возрождению интереса к японскому конфуцианству и его вкладу в японский философский дискурс.
Библиография
Abe, Yoshio, 1965. Nihon Shushigaku to Chôsen, Tokyo: Tokyo daigaku shuppansha.
Ansart, Oliver, 1998. L'empire du rite: La pensée politique d'Ogyû Sorai, Japan, 1666-1728, Geneva: Droz.
Bellah, Robert, 1985. Tokugawa Religion: The Cultural Roots of Modern Japan, New York: The Free Press.
Boot, W. J., 1983. The Adoption and Adaptation of Neo-Confucianism in Japan: The Role of Fujiwara Seika and Hayashi Razan, Leiden: W. J. Boot.
–––, 2012. Critical Readings in the Intellectual History of Early Modern Japan, Leiden: E. J. Brill.
Collcutt, Martin, 1991. “The Confucian Legacy in Japan,” in Gilbert Rozman, ed. The East Asian Region: Confucian Heritage and Its Modern Adaptation, Princeton: Princeton University Press, pp. 111-154.
De Bary, William Theodore, Carol Gluck, and Arthur E. Tiedemann (eds.), 2002. Sources of Japanese Tradition, 1600-2000, New York: Columbia University Press.
De Bary, William Theodore, Carol Gluck, Arthur E. Tiedemann, and Irene Bloom (eds.), 1979. Principle and Practicality: Essays in Neo-Confucianism and Practical Learning, New York: Columbia University Press.
Dilworth, David, Valdo H. Viglielmo, and Agustin Jacinto Zavala (eds.), 1998. Sourcebook for Modern Japanese Philosophy, Westport, CT: Greenwood Press.
Dore, Ronald, 1984. Education in Tokugawa Japan, Ann Arbor: University of Michigan Center for Japanese Studies.
Dufourmont, Eddy, 2010. “Is Confucianism Philosophy? The Answers of Inoue Tetsujirô and Nakae Chômin.” Whither Japanese Philosophy? Reflections Through Other Eyes, Tokyo: University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP Booklet 14).
Harootunian, H. D., 1970. Toward Restoration: The Growth of Political Consciousness in Tokugawa Japan, Berkeley: University of California Press.
–––, 1988. Things Seen and Unseen: Discourse and Ideology in Tokugawa Nativism, Chicago: University of Chicago Press.
Heisig, James W., 2004. Japanese Philosophy Abroad, Nagoya: Nanzan Institute for Religion and Culture.
–––, 2006. Frontiers of Japanese Philosophy, Nagoya: Nanzan Institute for Religion and Culture.
Heisig, James W., Thomas P. Kasulis, and John C. Maraldo (eds.), 2011. Japanese Philosophy: A Sourcebook, Honolulu: University of Hawai‘i Press.
Inoue, Tetsujirô, 1905. Nippon Shushigakuha no tetsugaku, Tôkyô: Fuzanbo.
–––, 1902. Nippon Kogakuha no tetsugaku, Tôkyô: Fuzanbo.
Joly, Jacques, 1996. Le naturel selon Andô Shôeki, Paris: Maisonneuve & Larose.
Koschmann, J. Victor (ed.), 1978. Authority and the Individual in Japan: Citizen Protest in Historical Perspective, Tôkyô: University of Tôkyô Press.
–––, 1987. The Mito Ideology: Discourse, Reform, and Insurrection in Late Tokugawa Japan, 1790-1864, Berkeley: University of California Press.
Koyasu, Nobukuni, 1998. Edo shisôshi kôgi, Tôkyô: Iwanami shoten.
Kurozumi, Makoto and Herman Ooms, 1994. “The Nature of Early Tokugawa Confucianism,” Journal of Japanese Studies, 20(2): 331–375.
Lidin, Olof G., 1973. The Life of Ogyû Sorai: A Tokugawa Confucian Philosopher, Lund: Studentlitteratur.
Lam, Wing-Keung, 2011. “The Making of ‘Japanese Philosophy’: Nishi Amane, Nakae Chômin, Nishida Kitarô,” Whither Japanese Philosophy? Reflections from Other Eyes, Tokyo: University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP Booklet 19).
Maruyama, Masao, 1974. Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan, Mikiso Hane, trans. Princeton: Princeton University Press.
McEwan, J. R., 1962. The Political Writings of Ogyû Sorai, Cambridge: Cambridge University Press.
McMullen, Ian James, 1999. Idealism, Protest, and The Tale of Genji : The Confucianism of Kumazawa Banzan (1619-91), New York: Oxford University Press.
Minamoto, Ryôen, 1986. Jitsugaku shisô no keifu, Tôkyô: Kodansha.
–––, 1988. Edo no Jugaku: Daigaku no jûyô no rekishi, Tôkyô: Shibunkaku shuppan.
Moore, Charles A., 1967. The Japanese Mind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture, Honolulu: University of Hawai‘i Press.
Najita, Tetsuo, 1978. Japanese Thought in the Tokugawa Period, 1600-1868: Methods and Metaphors, Chicago: University of Chicago Press.
–––, 1987. Visions of Virtue in Tokugawa Japan: The Kaitokudô Merchant Academy of Osaka, Chicago: University of Chicago Press.
–––, 1998. Tokugawa Political Writings, Cambridge: University of Cambridge Press.
–––, 2008. Doing思想史, Tokyo: Misuzushobô.
Nosco, Peter, 1984. Confucianism and Tokugawa Culture, Princeton: Princeton University Press.
–––, 1990. Remembering Paradise: Nativism and Nostalgia in Eighteenth-Century Japan, Cambridge: Harvard University Press.
Ooms, Herman, 1985. Tokugawa Ideology: Early Constructs, 1570-1680, Princeton: Princeton University Press.
Paramore, Kiri, 2009. Ideology and Christianity in Japan, London: Routledge Press.
Piovesana, Gino K., 1997. Recent Japanese Philosophical Thought, 1862-1996: A Survey, Richmond, Surrey: Curzon Press.
Reitan, Richard M., 2010. Making a Moral Society: Ethics and the State in Meiji Japan, Honolulu: University of Hawai‘i Press.
Sawada, Janine, 1993. Confucian Values and Popular Zen: Sekimon Shingaku in Eighteenth-Century Japan, Honolulu: University of Hawai‘i Press.
–––, 2004. Practical Pursuits: Religion, Politics, and Personal Cultivation in Nineteenth-Century Japan, Honolulu: University of Hawai‘i Press.
Smits, Gregory, 1999. Visions of Ryukyu: Identity and Ideology in Early-Modern Thought and Politics, Honolulu: University of Hawai‘i Press.
Spae, Joseph John, 1948. Itô Jinsai: A Philosopher, Educator, and Sinologist of the Tokugawa Period, Beijing: Catholic University Press; reprinted, New York: Paragon Book Company, 1967.
Takayanagi, Nobuo, 2011. “Japan's ‘Isolated Father’ of Philosophy: Nishi Amane and His 'Tetsugaku'”, Whither Japanese Philosophy? Reflections from Other Eyes, Tokyo: University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP Booklet 19).
Tucker, John A., 1998. Itô Jinsai's Gomô jigi and the Philosophical Definition of Early-Modern Japan, Leiden: E. J. Brill.
–––, 2006. Ogyû Sorai's Philosophical Masterworks: The Bendô and Benmei, Honolulu: University of Hawai‘i Press.
–––, ed., 2013. Critical Readings on Japanese Confucianism, Volume One: History; Volume Two: Philosophy; Volume Three: Religion; Volume Four: Translations, Leiden: E. J. Brill.
Tucker, Mary Evelyn, 1989. Moral and Spiritual Cultivation in Japanese Neo-Confucianism: The Life and Thought of Kaibara Ekken (1630-1714), Albany: State University of New York Press.
–––, ed., 1998. Confucianism and Ecology: The Interrelation of Heaven, Earth, and Humans, Cambridge: Harvard University Center for the Study of World Religions.
––– and Tu Weiming, eds., 2003. Confucian Spirituality, New York: Crossroad Publishing Company.
–––, 2007. The Philosophy of Qi: The Record of Great Doubts, New York: Columbia University Press.
Uno Seiichi, 1988. Jukyô shisô, Tôkyô: Kodansha.
Wajima, Yoshio, 1988. Nihon Sôgakushi no kenkyû, Tokyo: Yoshikawa kobunkan.
Watanabe, Hiroshi, 2010. Nihon seiji shisôshi, 17-20 seiki, Tokyo: University of Tokyo Press.
–––, 2012. A History of Japanese Political Thought, 1600-1901, David Noble, trans. Tokyo: International House of Japan.
Yamashita, Samuel Hideo, 1994. Master Sorai's Responsals: An Annotated Translation of Sorai sensei tômonsho. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
Yoshikawa, Kojirô, 1983. Jinsai, Sorai, Norinaga: Three Classical Philologists of Mid-Tokugawa Japan, Tôkyô: Tôhô gakkai.

.jpg)