Симона Вейль
Впервые опубликовано 10 марта 2018 года
Симона Вейль (1909–1943) философствовала на пределе и на пересечении границ. Ее постоянное стремление к истине и справедливости вело ее в элитные академии и на фабрики, к политической практике и духовному одиночеству. В разные периоды своей жизни она была активисткой, пацифисткой, мятежницей, мистиком и изгнанницей, но все то время, что она исследовала действительность и стремилась к добру, она оставалась философом. Ее творчество отличается нарочитой противоречивостью, но при этом демонстрирует поразительную ясность. Оно ценностно ориентировано и интегрировано, но не систематично. Оно содержит разрозненные заметки к ее переводам и комментариях к различным древнегреческим текстам, формулы геометрии Пифагора и подробные отчеты о ее повседневных задачах на фабрике, но также содержит обращения к политическим, промышленным и религиозным лидерам и произведения, предназначенные для студентов университетов, радикальных активистов, промышленных и сельскохозяйственных рабочих. И в своей жизни, и в своем мышлении — различие, к Вейль с трудом применимое — она философ границ и парадоксов. Отчасти из-за того, что мысль Вейль не поддается категоризации, способы восприятия ее идей часто говорят о комментаторе столько же, сколько и о ней самой. Вейль стала прототипом для révoltés [бунтующих] Альбера Камю и превозносилась Андре Жидом как «покровительница всех аутсайдеров». Джорджо Агамбен считал, что ее совесть «самая чистая в наше время», а Ханна Арендт утверждала, что, вероятно, только Вейль относилась к теме труда «без предубеждения и сентиментальности». Морис Бланшо описывал Вейль как «исключительную фигуру», являющую «пример убежденности» в современном мире, а Айрис Мердок писала о «глубоко дисциплинированной жизни, стоящей за ее текстами», что наделяло Вейль «неподдельным авторитетом». Лев Троцкий критиковал Вейль как «меланхоличную революционерку», а Шарль де Голль презрительно нарекал ее «сумасшедшей». Эти замечания, тем не менее, выдают иронию, которую Вейль хорошо осознавала и которая глубоко беспокоила ее ближе к концу жизни, а именно, что ее личность будет обсуждаться больше, чем ее мысли. Фокусируясь на разрабатываемых и высказываемых Вейль философских концепциях, в этой статье мы постараемся представить ее философию с учетом этого ее опасения.
Прослеживая философское развитие Вейль, мы рассмотрим ее ключевые концепты в свете пяти категорий: социально-политической философии, эпистемологии, этики, метафизики и религиозной философии, эстетики. Используемая нами периодизация выглядит следующим образом: 1925–1934 (ранние годы), 1935–1939 (средний период), 1939–1943 (поздний период). Важно отметить, что, учитывая отказ Вейль от систематичности и проработки понятий, эти категории и периоды привносят в ее мысль нечто искусственное. В заключении данной статьи будет сказано о рецепции Вейль в англо-американской и континентальной традициях философии.
Философское развитие
Симона Вейль родилась в Париже 3 февраля 1909 года. Благодаря ее родителям, оба из которых происходили из еврейских семей, у Симоны было ассимилированное, секулярное, буржуазное французское детство — одновременно культурное и комфортное. И Симона Вейль, и ее старший брат Андре — математическое дарование, основатель группы Бурбаки и выдающийся математик в Принстонском институте перспективных исследований — учились в престижных парижских школах. Ее первым учителем философии в лицее Виктора Дюруи был Рене Ле Сенн — именно он познакомил ее с тезисом, которого она впоследствии придерживалась, что противоречие является теоретическим препятствием, порождающим тонкое, чуткое мышление. С октября 1925 года Вейль училась в лицее Генриха IV, готовясь к вступительным экзаменам в Высшую нормальную школу. В лицее Генриха IV она училась под руководством философа и эссеиста Эмиля-Огюста Шартье, известного под псевдонимом Ален, учителем которого был Жюль Лагно. Ален, как и Вейль тогда, был агностиком. На своих занятиях он делал упор на интеллектуальной истории: из философов он говорил о Платоне, Марке Аврелии, Декарте, Спинозе и Канте, а в области литературы — о Гомере, Эсхиле, Софокле и Еврипиде. Уже тогда сочувствуя угнетенным и будучи критически настроена к французскому обществу, на уроках Алена Вейль получила теоретический инструментарий для критики своей страны. Так, в своих эссе используя парадокс и внимание (важно отметить, что ни одно из сочинений Вейль не было опубликовано в виде книги при ее жизни), она намеренно начала развивать то, что позднее стало отличительной чертой ее философствования. Поэтому можно утверждать, что она принадлежит к волюнтаристскому, спиритуалистическому направлению Алена/Лагно во французской философии.
В 1928 году Вейль начала учиться в Высшей нормальной школе. Она была единственной женщиной в своем классе, в то время как первая женщина вообще была принята в Высшую нормальную школу в 1917 году. В 1929–1930 годах Вейль работала над диссертацией о знании и восприятии у Декарта и, получив степень агреже, с 1931 до середины 1934 преподавала в лицеях. В этот период, помимо выполнения своих обязанностей в каждом лицее, где она преподавала, она также преподавала философию рабочим, отстаивала их интересы и писала от имени рабочих групп. Кроме того, иногда она сама бралась за ручной труд. В ранний период она ценила одновременно перспективу от первого лица и радикальный скептицизм Декарта, классовую солидарность и материалистический анализ Маркса, а также моральный абсолютизм и кантовское уважение к личности. Ранние работы Вейль, наследуя что-то от каждого из этих философов, можно понять как попытку дать собственный анализ — в перспективе свободы — фундаментальных причин угнетения в обществе.
В начале августа 1932 года Вейль совершила поездку в Германию, чтобы лучше понять условия, положившие начало нацизму. Немецкие профсоюзы, как она писала друзьям по возвращении во Францию, были единственно силой в Германии, способной осуществить революцию, но они были полностью реформистскими. Долгие периоды безработицы лишили немцев энергии и самоуважения. В лучшем случае, как она открыто заявляла, они могут быть мертвым грузом в деле революции. В начале 1933 года Вейль критиковала тенденцию социальных организаций порождать бюрократию, которая возвышает управление и коллективное мышление над индивидуальным работником и обращается против него. Вейль критиковала эту тенденцию и выступала за то, чтобы рабочие понимали выполняемый ими физический труд в контексте всего организационного аппарата. В «Размышлениях о причинах свободы и общественного угнетения» (Weil 1934) Вейль обобщила свои ранние идеи и предвосхитила центральные элементы своих последующих тем. В этом эссе Вейль использует марксистский метод анализа, фокусирующийся на угнетенных, критикующий ее собственную позицию интеллектуала, отдающий предпочтение ручному труду и требующий точного и неортодоксального индивидуального мышления, объединяющего теорию и практику против коллективных клише, пропаганды, запутывания и чрезмерной специализации. Эти идеи являются теоретической рамкой ее уникальной философской практики. Ближе к концу своей жизни она написала в тетради: «Философия (включая проблемы познания и т.д.) — это исключительно вопрос действия и практики» (FLN 362).
20 июня 1934 года Вейль подала заявление на академический отпуск. Она была намерена провести год, работая на парижских фабриках в качестве представителя наиболее угнетенной группы — неквалифицированных женщин-рабочих. «Год работы на фабрике» (который насчитывал, на самом деле, примерно 24 недели работы) был важен не только для развития политической философии Вейль — он также может считаться отправной точкой ее медленной религиозной эволюции.
В парижских фабриках Вейль начала видеть и понимать нормализацию жестокости в современной промышленности. Она написала в своем «Рабочем журнале», что там «время было непосильным бременем» (FW 225), поскольку работа на современной фабрике состояла из двух элементов: поручений от руководителей и связанное с ними наращивание скорости производства. Пока управляющие на фабрике продолжали требовать больше, усталость и мышление (становящееся все менее возможным в таких условиях) замедляли труд. В результате Вейль чувствовала себя расчеловеченной. Феноменологически ее фабричный опыт был не столько физическим страданием как таковым, сколько унижением.
Во время путешествия в Португалию в августе 1935 года, когда Вейль наблюдала процессию в честь святого покровителя рыбаков, произошло ее первое значимое соприкосновение с христианством и она написала, что на нее внезапно снизошло осознание, что христианство — это прежде всего религия рабов, что рабы не могут не принадлежать христианству и что она в их числе (Weil 1942 в WFG 21–38, 26).
В сравнении с «Завещанием», которое Вейль написала до работы на фабрике, мы видим, что в «Рабочем журнале» она придерживается языка свободы, но совершает терминологический сдвиг от «угнетения» к «унижению» и «несчастью». Таким образом, ее концепция и описание страдания сузились и стали более личными.
В 1936 году Вейль участвовала в фабричных занятиях в Париже и, более того, планировала вернуться работать на фабрику. Тем не менее ее планы изменились в связи с приближением гражданской войны в Испании. Критически настроенная по отношению и к гражданским, и к международным войнам, на геополитическом уровне Вейль одобряла решение Франции не вмешиваться в войну на стороне республиканцев. Однако на уровне личной приверженности она, получив журналистское удостоверение, вступила в международную анархистскую бригаду. 20 августа 1936 года Вейль, неуклюжая и близорукая, наступила в кастрюлю с кипящим маслом, сильно обожгла нижнюю левую ногу и подъем стопы. Только родители могли убедить ее не возвращаться на войну. В конце 1936 года Вейль писала тексты против французской колонизации Индокитая, а в начале 1937 года она выступала против французских претензий на Марокко и Тунис. В апреле 1937 года она отправилась в Италию.
В 1937–1938 годах Вейль вновь обратилась к марксизму, утверждая, что в мышлении Маркса имеется центральное противоречие: хотя она придерживалась его метода анализа и положения о том, что современное государство по своей сути является репрессивным, — поскольку оно состоит из армии, полиции и бюрократии, — она продолжала отвергать идею, что революция является неизбежной и предопределенной. Действительно, в средний период Марксова вера в историю казалась ей худшим основанием для суждения, чем макиавеллевский акцент на случайности.
Во время пасхальной недели, в Вербное воскресенье, 1938 года Вейль посетила бенедиктинское аббатство Солем, оставшись там до следующего вторника. В Солеме она в третий раз соприкоснулась с христианством: страдая от головной боли, Вейль нашла в григорианском пении такую чистую радость, что, по аналогии, смогла понять,
«как возможно любить божественную Любовь через несчастье. Во время этих служб мысль о Страдании Христа сама собой вошла в меня раз и навсегда». (Вейль 2012: 61)
В Солеме она также узнала о поэте семнадцатого века Джордже Герберте от молодого англичанина, с которым там познакомилась. Она утверждала, что чувствует присутствие Христа, читая стихотворение Герберта «Любовь». Когда Вейль, страдая от своей самой сильной головной боли, сосредоточила все свое внимание на стихотворении, она заметила, что ее декламация имеет силу молитвы: «Сам Христос сошел и пленил меня» (Там же: 411). Важно отметить, что она считала, что Бог «милосердно» не позволил ей читать мистиков до этого момента, а потому она не может считать свой неожиданный контакт Христом выдуманным (Там же: 412). Эти события и труды 1936–1938 годов иллюстрируют взаимообусловленный характер солидарности и духовности в мысли Вейль, начало которому было положено в августе 1935.
После заключения военного союза Германии и Италии в мае 1939 года Вейль отказалась от своего пацифизма. Она не считала, что ее предыдущая позиция была ошибочной, однако утверждала теперь, что Франция уже недостаточно сильна, чтобы сохранять великодушие или просто обороняться. После немецкого наступления на Западе она покинула Париж со своей семьей в июне 1940 года, на последнем поезде. В итоге они временно обосновались в Марселе — в то время главном местом сбора тех, кто пытался бежать из Франции, и где Вейль работала в Сопротивлении.
В Вишистской Франции Вейль занялась практикой, к которой давно стремилась, а именно приобщилась к жизни сельскохозяйственных рабочих. Кроме того, в Марселе она познакомилась с доминиканским священником Жозефом-Мари Перреном, который стал ее близким другом и духовным собеседником и благодаря которому она задумалась о крещении. Стремясь помочь Вейль найти работу в сельском хозяйстве, Перрен обратился к своему другу Гюставу Тибону, католическому писателю, владевшему фермой в регионе Ардеш. Благодаря этому осенью 1941 года Вейль работала на сборе винограда. Важно, однако, что с ней обращались не так, как с остальными рабочими: хотя она работала по восемь часов в день, она жила и ела в доме своих хозяев. Говорят, что она носила с собой в виноградники «Пир» Платона и пыталась читать его тем, с кем она работала.
В 1942 году Вейль согласилась покинуть Францию отчасти для того, чтобы обеспечить своим родителям безопасное пристанище (она знала, что они не уедут без нее), но главным образом потому, что считала, что могла бы быть более полезной для военных действий Франции, находясь в другой стране. Поэтому она отправилась в Нью-Йорк через Марокко. В Нью-Йорке, как и в Марселе, она исписывала тетрадь за тетрадью философскими, теологическими и математическими размышлениями. Нью-Йорк, однако, был далек от страданий ее родной Франции; свободное французское движение в Лондоне чувствовало себя на один шаг ближе к возвращению во Францию. В 1943 году Вейль получила небольшой офис на Хилл-стрит, 19 в Лондоне. В этой комнате она писала день и ночь в течение следующих четырех месяцев с четырехчасовым сном каждую ночь. В этот период она написала около 800 печатных страниц, однако вышла из движения Свободной Франции в конце июля (Pétrement 1973 [1976: xx]).
Вейль умерла во вторник, 24 августа 1943 года. Три дня спустя коронер объявил ее смерть, вызванную сердечной недостаточностью от голода и туберкулеза, самоубийством. Ее биографы рассказывают более сложную историю: Вейль знала, что ее соотечественники — мужчины и женщины на оккупированной территории — должны были в это время жить на минимальном продовольственном пайке, и она настаивала на том же для себя, что усугубляло ее физическое заболевание (Von der Ruhr 2006: 18). 30 августа она была похоронена на Новом кладбище Эшфорда между еврейской и католической секциями. Ее могила изначально была безымянной. В течение пятнадцати лет жители Эшфорда считали, что это была могила нищего.
Социально-политическая философия
Всегда придерживаясь «левых» позиций, Вейль постоянно пересматривала свою социально-политическую философию в зависимости от материальных условий ее жизни. Тем не менее она была последовательна в своем обостренном внимании к положению угнетенных и маргинализированных слоев общества и формулировала свои идеи, отталкиваясь от этого.
Ее ранние эссе о политике, некоторые из которых были посмертно собраны Альбером Камю в сборнике «Oppression et liberté» (OL), включая «Капитал и рабочий» (Weil 1932), «Перспективы: движемся ли мы в сторону пролетарской революции?» (Weil 1933), «Рассуждения о технологиях, национал-социализме, СССР и некоторых других вопросах» (Weil 1933) и, самое значимое, «Рассуждения о причинах свободы и социального угнетения» (Weil 1934 в OL 36–117). В своих ранних текстах Вейль пыталась проанализировать реальные причины угнетения, чтобы воодушевить участников революционного действия. Она была убеждена, что без этого анализа социально привлекательное движение привело бы лишь к поверхностным изменениям во внешнем виде средств производства, а не к новым формам структурной организации.
Разделение труда или существование материальных привилегий сами по себе не являются достаточным условием того, что Вейль подразумевает под словом «угнетение». То есть она признает, что существуют некоторые формы социальных отношений, включающие различия, иерархию и порядок, которые не обязательно являются угнетающими. Однако вмешательство борьбы за власть, которую она, вслед за Гоббсом, считает неустранимой чертой человеческого общества, порождает угнетение.
«Власть [puissance] содержит в себе своего рода фатальность, которая так же безжалостно давит на тех, кто повелевает, как и на тех, кто повинуется; более того, именно в той мере, в какой она порабощает первых, она через их посредство давит на последних». (OL 62)
Отделяя понимание от применения метода, угнетение, производимое посредством силы, отрицает непосредственный контакт человека с реальностью. Кроме того, ее понимание угнетения связано с понятием «привилегии», которое включает в себя не только деньги или оружие, но и корпус знаний, недоступных для трудящихся масс, что порождает культуру специалистов. Привилегии, таким образом, усиливают угнетение в современных обществах, которые удерживаются вместе не общими целями, значимыми отношениями или органически развивающимися сообществами, а «религией власти» (OL 69).
В своей ранней социально-политической мысли Вейль свидетельствовала о том, что она называла «новым видом угнетения» (“Prospects”, OL 9), а именно о бюрократии в современной промышленности. И анархизм, и марксистский метод анализа повлияли на способ ее проблематизации революционной борьбы: проблема заключается в формировании социальной организации, которая не порождает бюрократию, анонимное и институционализированное проявление силы.
Гнет современной бюрократии, на который она ответила анализом и критикой, включает в себя клише, официальный и обскурантистский язык, профессионализацию — «кастовые привилегии» интеллектуалов (OL 34) — и такое разделение труда, при котором в большинстве случаев труд рабочих не предполагает, а фактически исключает вовлеченное мышление. Таким образом, нарушая равновесие, современные люди живут как винтики в машине: они меньше похожи на мыслящих индивидуумов и больше на инструменты, раздавленные «коллективами». Коллективность — понятие, которое прежде всего включает промышленность, бюрократию и государство («бюрократическая организация par excellence» (OL 109)), но также и политические партии, церкви и профсоюзы — по определению подавляет индивидуальную субъективность.
Несмотря на ее критику угнетения, престижа и коллективизма, полемически Вейль также критикует «революцию», которая для нее означает инверсию сил, победу слабого над сильным. Это, по ее словам, «эквивалент весов, более легкая шкала которых должна опуститься» (OL 74). Таким образом, «революция», в ее разговорном или детерминистическом смысле, сама стала «опиумом» — словом, во имя которого умирают трудящиеся массы, но которое остается пустым.
В адаптации Вейль этого кантовского понятия такой регулятивный идеал предполагает внимание к реальности, например, к современным политическим и трудовым условиям, к человеческим условиям, таким как борьба за власть. Только так он может предоставить стандарт для анализа действия: идеал допускает диалектическое отношение между революционной альтернативой и существующей практикой, которая всегда зависит от материальных условий. Итак, свобода — это единство мысли и действия. Более того, это — что не столь отличается от гегелевской концепции — условие сбалансированных отношений и зависимости как от других (которые ограничивают нашу автономию), так и от мира (который ограничен и ограничивает). Освобождающий способ производства, в противоположность отчуждающему и угнетающему, предполагает мышление и взаимодействие с другими людьми на протяжении всего процесса труда. Когда рабочие понимают как механические процедуры, так и усилия других членов коллектива, сам коллектив становится подчиненным индивидам, то есть средства и цели по праву оказываются в отношениях равновесия.
Онтология, лежащая в основе представления Вейль о свободном труде, опирается на кантовское понятие индивида как цели и, что особенно важно для Вейль, на способность индивида к мышлению (в согласии с Платоном, для которого знание и действие едины). Кроме того, телеология труда в философии Вейль соответствует мысли Гегеля и Маркса и находится в оппозиции к Локку: в смешении индивида с материальным миром Вейль интересует то, как это способствует свободе, а не собственности. Укоренение, которое Вейль ощутила во время фабричной работы, изменило ее концепцию свободы: когда она начала рассматривать человеческое состояние не только как состояние неумолимой борьбы, но и рабства, ее представление о свободе сместилось от негативной свободы от ограничений к позитивной свободе повиноваться. Этот второй, особый вид свободы отношений она назвала «согласием». Она завершила свою «инвентаризацию современной цивилизации» (OL 116) призывом привнести в бюрократическую машину игру и призывом мыслить как личности, отрицая «социального идола», «отказываясь подчинять свою судьбу ходу истории» и занимаясь «критическим анализом» (OL 117). Таким образом, к 1934 году Вейль изобразила идеальное общество, которое она теоретически осмысляла как регулятивную невозможность, в которой ручной труд, понимаемый и выполняемый мыслящими индивидами, является «стержнем» свободы.
«Рабочий журнал» Вейль за 1934–1935 годы свидетельствует о сдвиге в ее социально-политической философии. В этот период ее политический пессимизм усилился. В свете унизительной работы, которой она занималась на фабриках, ее послефабричные сочинения характеризуются терминологической интенсификацией: от «унижения» и «угнетения» до «страдания» (malheur) — понятия, основанного на ее фабричном опыте воплощенной боли в сочетании с психологической агонией и социальной деградацией, к которой она позже добавит духовное страдание.
В 1936 году она представила свои политические убеждения в форме, предвосхищающей ее более позднюю общественно-политическую мысль. Она по-прежнему остерегалась революции и вместо этого стремилась к реформам, а именно к большему равенству на фабрике путем перехода от подчинения к сотрудничеству. Кроме того, в ответ на начало гражданской войны в Испании она выступала против фашизма, в то же время выступая — в отличие от коммунистов — за французское невмешательство. Она была противницей авторитарной логики и рассматривала войну как своего рода капитуляцию перед логикой власти и престижа, присущей фашизму.
«Нужно выбирать между престижем и миром. И даже если мы утверждаем, что верим в отечество, демократию или революцию, политика престижа означает войну». (FW 258)
Вейль продолжила развивать понятия власти и престижа в своей статье «Давайте не будем начинать еще одну Троянскую войну» (переведено на английский как “The Power of Words”, SWA 238-258). Ее тезис состоит в том, что разрушение войны обратно пропорционально официальным предлогам, выдвигаемым для борьбы с ней. Войны абсурдны, утверждала она (в противоположность Клаузевицу), потому что «это конфликты без определенной цели» (SWA 239). Подобно фантому Елены, вдохновившему людей на десять лет борьбы, идеологии (например, капитализм, социализм, фашизм), а также слова с большой буквы, такие как «Нация» и «Государство», взяли на себя роль фантома в современном мире. Власть опирается на престиж — сам по себе иллюзорный и безграничный, потому что ни одна нация не думает, что она имеет достаточно или уверена в сохранении своей воображаемой славы, и как следствие постоянно приумножает свои средства для ведения войны, чтобы казаться абсолютной и непобедимой. В ответ на эти силы Вейль призывала различать воображаемое и действительное и, соответственно, правильно и точно определять слова. Все эти предписания составляют критику идеологии и политической риторики (критику, которую Вейль полнее сформулировала в своих более поздних работах).
«Когда слово правильно определено, оно больше не пишется с заглавной буквы и не может более служить ни знаменем, ни враждебным лозунгом; оно становится просто знаком, помогающим нам понять какую-то конкретную реальность, конкретную цель или метод деятельности. Прояснить мысль, дискредитировать внутренне бессмысленные слова и определить использование других путем точного анализа — это, как ни странно, может быть способом спасения человеческих жизней». (SWA 242)
Таким образом, в средний период своего творчества Вейль сохраняла напряженность между реальностью, пределом и равновесием, с одной стороны, и воображением, безграничностью и коллективностью, с другой. В 1937 году в своей «Заметке о социал-демократии» она определила политику следующим образом:
«Материал политического искусства — это двойная перспектива, постоянно колеблющаяся между реальными условиями социального равновесия и движениями коллективного воображения. Коллективное воображение, будь то массовые собрания или собрания в вечерних костюмах, никогда не пребывает в правильном соответствии с действительно решающими факторами данной социальной ситуации; оно всегда — вне сути дела, впереди или позади него». (SE 152)
В поздний период своей жизни Вейль дала объяснение всепроникающему и при этом неясному понятию «силы» в эссе «Илиада, или поэма силы» (1940, SWA 182-215). Важно отметить, из какого места Вейл формулировала это понятие: по времени — после падения Франции, пространственно — с позиции изгнания, подвергаясь антисемитской маргинализации, — поэтому эссе появилось в декабре 1940 года и январе 1941 года в «Cahiers du Sud» под анаграмматическим псевдонимом Эмиль Нови, взятым Вейль, чтобы избежать антисемитской цензуры и нападок. Это эссе было не только самой читаемой из работ Вейль при ее жизни, но и ее первым эссе, вышедшем в свет на английском языке в переводе Мэри Маккарти, опубликованном в журнале Дуайта Макдональда «Politics» в 1945 году (Weil 1945).
В своем эссе об «Илиаде» — тексте, который Роберто Эспозито называет «феноменологией силы» (Esposito 1996 [2017: 46]) — Вейль развивает понимание силы, первоначально представленное в ее более раннем, незаконченном эссе «Размышления о варварстве» (1939): «Я считаю, что концепция силы должна быть центральной в любой попытке ясного осмысления человеческих отношений» (цитируется в Pétrement 1973 [1976: 361]). Главный герой «Илиады», в оригинальной интерпретации Вейль, не Ахилл и не Гектор, а сама сила.
Отсюда вытекают два важных следствия. Во-первых, на индивидуальном уровне каждая «личность» (la personne) формируется социальными ценностями и тем самым манифестирует действие силы случайными факторами, такие как семья, в которой человек родился, или воплощенными чертами, которые считаются физически привлекательными в определенном месте, в определенном обществе, в определенное время. Во-вторых, на уровне коллективности сила может разрушать не только тела, но также ценности и культуры, как это имеет место — на что с горечью указывает Вейль — во французском колониализме. Таким образом, в своих поздних работах Вейль не рассматривала ни понятие класса Маркса, ни саморазвитие Geist у Гегеля, а рассматривала саму силу как ключ к истории. Она представляет это понятие двояко: «в самой грубой и обобщенной форме» — как «убивающую силу», и, что еще более непредсказуемо по своим последствиям, как особый вид насилия, «которое еще не убивает», хотя, несомненно, убьет, но может просто висеть, уравновешенное и готовое, над головой существа, которое оно может убить в любой момент. (SWA 184–185)
Таким образом, предложенная Вейль концепция силы также является развитием идей Гоббса и Гегеля: в ней указывается то, что делает индивида рабом.
Именно в Лондоне (1942–1943), во время работы на Свободную Францию, Вейль сформулировала свою самую сильную позднюю социально-политическую философию. Ее представления о «труде» и «справедливости» становились все более расплывчатыми по мере того, как она двигалась в сторону христианства и — вопреки своему раннему акценту на личности — социального.
Произведения Вейль, относящиеся к этому периоду, включают в себя «Проект заявления об обязательствах человека» (Weil 1943), написанный в ответ на государственную реформу де Голля при разработке новой декларации прав человека и гражданина, а также «Записку о всеобщем подавлении политических партий» (Weil 1943), написанную по причине того, что Свободная Франция рассматривала вопрос о признании политических партий. В этой статье Вейль выступает за полную ликвидацию политических партий. Опираясь на концепцию общей воли Руссо, Вейль утверждает, что политические партии подчиняют себе независимую, индивидуальную волю, производной которой является общая воля и от которой зависит демократия. Самым важным сочинением этого периода было «Укоренение» (L'enracinement), которое Вейль назвала своим вторым «magnum opus» (SL 186) и которое Альбер Камю опубликовал после ее смерти в 1949 году вместе с Галлимаром в качестве первого из 11 томов Вейль, которые он впоследствии издаст.
В Лондоне Вейль написала еще ряд эссе, наиболее концептуально значимым из которых было «La Personne et le sacré» (1942-1943, переведенное на английский язык как «Human Personality”»; рус. пер. «Личность и священное»), в котором она критикует «права», поскольку те зависят от силы, и противопоставляет термины «обязательство» и «справедливость». Она различает две концепции справедливости: естественную (следовательно, социальную и случайную) и сверхъестественную (следовательно, безличную и вечную). В «Укоренении» (Вейль 2000) «потребности души» рассматриваются как еще один противовес правам.
Отталкиваясь как от Канта, так и от Платона, которого Вейль «стала считать ... мистиком» (WFG 28), основой справедливости она считала не человеческую рациональность, а стремление к добру, которое, как она полагала, разделяют все люди, даже если порой они забывают или отрицают это. Важно отметить, что с учетом ее критики французского колониализма и несмотря на ее заявление о том, что обязательства перед другими должны быть неизбирательными, то есть универсальными, она не хотела универсализировать право, как это делал Кант. Скорее, ее цель состояла в том, чтобы культуры продолжали свои собственные традиции, ибо цель укорененности (l'enracinement) состоит не в изменении культурных ценностей как таковых, а в изменении того, как люди в этих культурах понимают ценности и ориентируются на них.
Понятие «корней» имеет центральное значение для поздних политических взглядов Вейль. Имея коннотации как жизнеспособности, так и уязвимости, понятие «корней» представляет человеческое общество как динамичное и живое, одновременно свидетельствуя о необходимости стабильности и безопасности, если рост и процветание должны происходить на уровне индивида. Помимо органической метафоры на уровне природного, понятие корней связывает реальность общества с идеалом сверхъестественной справедливости. Корни делают явной человеческую подчиненность материальным и историческим условиям, в том числе потребность участвовать в жизни сообщества, чувствовать связь с местом и поддерживать временные связи, например, с культурной историей и надеждами на будущее. В свою очередь, укоренившаяся общность позволяет индивиду развиваться в направлении к Богу или вечным ценностям. Таким образом, и в отличие от свойственного ее раннему и среднему периоду критического дистанцирования от любого коллектива (любого «великого зверя», используя часто ей употребляемую платоновскую метафору), в свой поздний период Вейль рассматривает корни как то, что формирует «новый патриотизм», основанный на сострадании. Укоренение (l'enracinement) дает возможность множественных отношений к миру (например, на уровне нации, органически развивающейся общности, школы), которые одновременно питают индивида и общность.
В «Укоренении», помимо войны и колонизации, Вейль говорит о деньгах и современном образовании как о самовоспроизводящихся силах, которые выкорчевывают человеческую жизнь. Самый длинный раздел текста описывает современную оторванность (déracinement), имеющую место, когда воображаемая современная нация и деньги оказываются единственными связующими силами в обществе. Это состояние она полагает угрозой человеческой душе. Современное образование развращено как капитализмом — теперь оно есть не что иное, как «средство для получения диплома — то есть положения» (Вейль 2000), — так и римским наследием культивирования национального престижа: «Именно такое идолопоклонство он передали нам под именем патриотизма» (Там же).
Более того, в «Укоренении ее письмо преломляется через ее религиозный опыт. Таким образом, в этот поздний период она уже не рассматривает труд в механических терминах «стержня», как это было в ее ранних работах; теперь он является «духовным ядром» «хорошо упорядоченной социальной жизни» (Вейль 2000). (В ее поздней социально-политической философии духовная революция важнее экономической.) В отличие от греков, которые обесценивали физический труд, ее концепция труда является посредником между естественным и сверхъестественным. В поздних работах ее понимание труда полностью обусловлено ее верой в свете опыта общения с христианством. Таким образом, согласие труда с природными силами и тот факт, что труд осуществляется через их посредство (например, гравитацию), на самом деле является согласием с Богом, который создал естественный мир. Поскольку энергия расходуется ежедневно, кенотическая деятельность труда является своего рода imitatio Christi.
Ее социально-политические труды, написанные в Лондоне, заметно отличаются от ранних анархистских работ, опирающихся главным образом на Декарта, Маркса и Канта. Несмотря на то, что эти влияния сохраняются, ее более поздние работы следует читать через призму христианского платонизма. Она полагает, что мы должны считать наше социальное окружение источником духовной жизни. То есть в то время как духовность индивидуальна по отношению к Богу, она проявляет себя в социальном контексте, а именно в коллективе и, главным образом, в нации. Это — полная инверсия прежде поддерживаемой ею критической дистанции в отношении коллектива, особенно ее ранней сосредоточенности на индивидуальном методическом мышлении.
Эпистемология
На протяжении всей своей жизни Вейль утверждала, что знание мира требует строгого, взвешенного мышления, даже если эти трудности и измерения приводят мыслителя к почти неразрешимым задачам. Для нее этими задачами были, например, синтез перспективы сложной католической доктрины — на границе церкви— и мудростью таких различных традиций, как древнегреческая философия и трагедии, индуизм, буддизм и даосизм. Вслед за Эсхилом она верила, что знание приобретается через страдания. Сформированная ее социально-политической и религиозной мыслью, эпистемология Вейль со временем изменялась, особенно в свете ее мистического опыта, ее личных контактов с Богом.
В своей диссертации Вейль в поисках фундаментального знания пытается мыслить вместе с Декартом. Подобно Декарту, она доказывает существование «я», Бога и мира. Ее cogito, однако, радикально отличается от cogito Декарта: «Я могу, следовательно, я существую» (Je puis, donc je suis) (FW 59). Я способно к свободе, утверждает Вейль, но что-то другое — всемогущий Бог — заставляет его осознать, что оно не всемогуще. Таким образом, самопознание — это способность, всегда обусловленная признанием того, что человек не является Богом. Вейль придерживалась своего рода картезианской эпистемологии во время своей преподавательской деятельности в начале своей академической жизни. В «Лекциях по философии» (1978 LP), сборнике конспектов лекций, сделанных одной из ее учениц в 1933–1934 учебном году в женском лицее в Роанне, мы находим, что Вейль сперва критически оценивала ощущения в качестве основания для знания и, следовательно, критиковала эмпирическую эпистемологию (LP 43–47).
Начиная с ранних своих работ Вейль ставила перед собой цель проблематизировать воображение как «folle imagination» [безумное воображение], барьер между разумом и реальностью, имея в виду, что познающий человек не имеет доступа к вещам-в-себе. Таким образом, эпистемология Вейль, основанная на ее первоначальных исследованиях Декарта, приобретет интонации Канта и Платона, одновременно противопоставляя ее Аристотелю. Она критически относилась к любому ощущению, которое универсализирует чье-либо восприятие мира, и рассматривала воображение как расширение «я», поскольку оно не может не мыслить через свои собственные категории, желания и стремления, тем самым интерпретируя мир на своем собственном языке. Кроме того, Вейль разрабатывает интерсубъективную эпистемологию. Знание истины требует не расширения собственной ограниченной перспективы, а ее приостановки или такого от нее отказа, чтобы реальность, включая реальность существования других, могла явиться на своих собственных условиях. Эта приостановка включает в себя практику эпистемического смирения и открытости всем идеям; интеллект, по Вейль, требует квалифицированного использования языка, признания степеней, пропорций, случайностей и отношений, а также способности ставить под сомнение свое «я». Эти эпистемические практики являются частью более широкого осознания ограниченности познающего индивида.
Развитие эпистемологии Вейль можно увидеть прежде всего в том, как она мыслит противоречие. В «Лекциях по философии» она настаивала, что чувство противоречия выходит за пределы логической связи «a есть b» и «a есть не-b». Действительно, она утверждает, что противоречие может создавать продуктивное препятствие, в том смысле, что оно требует от ума расширить мышление ради преодоления этого препятствия. Опираясь на математику Евдокса, она развивает данное понятие, утверждая, что несоизмеримые [величины] могут быть согласованы, когда они установлены на своего рода «высшем плане». Однако это не тот тип гегелевского синтеза, который может быть понят интеллектуально. Напротив, созерцание противоречий может привести познающего к более высокому созерцанию истины-как-тайны. Таким образом, в своей поздней эпистемологии Вейль представляет понятие «тайны» как некоторого рода противоречие, в котором несоизмеримые [величины] оказываются связанными в непостижимом единстве.
Тайна в качестве способа осмысления противоречия имеет теологические или по крайней мере сверхъестественные импликации. Например, если бы противоречие понималось через формальную логику, то существование скорби, по-видимому, доказывало, что всемогущего и абсолютно благого Бога не существует; однако противоречие, понимаемое как тайна, само может служить посредником, допуская сосуществование скорби и Бога, с наибольшей силой явленного на кресте. Действительно, Христос — это религиозное разрешение главного для Вейль противоречия, противоречия между необходимым и благим. Более того, через воплощение, открывающее всеобщность, Христос также манифестирует и разрешает противоречие индивидуального и коллективного. Так, модифицируя пифагорейскую идею гармонии, Вейль утверждает, что Христос допускает «справедливое равновесие противоположностей» (WFG 33). В более широком смысле, в своей книге 1941 года «Учение Пифагора» она утверждает, что математика является мостом между естественным и вечным (или между человеком и Богом). То есть пифагорейцы предлагали интеллектуальное решение кажущихся естественными противоречий. Отталкиваясь от Пифагора, она утверждала, что само изучение математики может быть средством очищения посредством принципов пропорции и необходимого уравновешивания противоположностей — особенно в геометрии. Она видела в духе и наследии пифагореизма связь между пифагорейскими математическими прозрениями и их отчетливо религиозным проектом проникновения в тайны космоса.
В противоположность подавлению или растворению противоречий, как в систематической философии, в ценностно-ориентированной философии Вейль противоречия должны быть представлены честно и проверены на разных уровнях; для нее они являются «критерием реального» и соответствуют ориентации на отстраненность (GG 98). Например, императив Христа «любите врагов ваших» содержит противоречие в ценности: любите тех, кто отвратителен и кто угрожает уязвимости любви. Для Вейль подчинение этому союзу противоположностей ослабляет привязанность к частным, эгоистичным перспективам и обеспечивает «развитый интеллектуальный плюрализм» (Springsted 2010: 97). Она пишет: «Привязанность к какой-либо конкретной вещи можно разрушить лишь при помощи привязанности, с ней несовместимой» (Вейль 2008. — Пер. измен.). Имея в виду эти философские ходы, Роберт Шенавье утверждает, что она разрабатывает не философию восприятия, феноменологию, а, скорее, используя фразу Гастона Башляра «динамологию противоречий» (Chenavier 2009 [2012: 25]).
В целом, представление Вейль о противоречии в большей степени пифагорейское или платоническое, нежели марксистское: оно рассматривает противоречие не через разрешение на уровне вещей, а через диалектику на уровне мысли, где тайна является ее началом и конечной точкой (Springsted 2010: 97). В своем незаконченном эссе «Существует ли Марксистская доктрина?», написанном во время ее пребывания в Лондоне, Вейль пишет:
«Противоречие в материи изображается с помощью столкновения противонаправленных сил. Маркс чисто и просто приписывал социальной материи такое же движение к благу через противоречия, которое Платон описывал как свойственное мыслящему существу, возвышенного сверхъестественным действием благодати». (OL 180)
Вейль употребляет понятие «диалектика» в греческом смысле, рассматривая «добродетель противоречия как опору для души, возвышаемой благодатью»; Маркс по ее мнению, ошибался, связывая это с «материализмом» (OL 181).
Вторым центральным эпистемологическим понятием для Вейль является «чтение» (lecture). Чтение — это определенного рода интерпретация того, что открывается познающим посредством физических ощущений и их социальных условий; поэтому чтение — как восприятие и приписывание определенных смыслов в мире — всегда опосредовано. В свою очередь, чтение опосредовано другими чтениями, поскольку наше восприятие смысла, несомненно, вовлечено в интерсубъективную сеть интерпретаций и подвержено ее влиянию. Вейль объясняет это заимствованной у Декарта метафорой палки слепого. Мы можем прочитать ситуацию через внимание к другому, чтобы расширить наше осознание и чувствительность, точно так же, как слепой увеличивает свою чувствительность с помощью своей палки. Но наши представления о мире также могут стать более узкими и упрощенными, как, например, в ситуации, заданной насилием и силой, когда мы начинаем видеть в каждом встречном потенциальную угрозу. Более того, чтение не свободно от динамики власти — его могут навязывать, в него могут вмешиваться; здесь эпистемология Вейль соединяется с ее социально-политической философией, в частности, с ее концепцией силы.
«Мы читаем, но нас также читают другие. В эти прочтения вмешиваются. Одних заставляем читать себя так, как мы читаем их (рабство). Других заставляем читать нас так, как мы читаем себя (завоевание)». (NB 43)
Она связывает чтение с войной и воображением: «Война — это способ навязать другому прочтение ощущений, давление, оказываемое на воображение других людей» (NB 24). В своей работе 1941 года «Эссе о понятии чтения» (LPW 21–27) Вейль уточняет: «Война, политика, красноречие, искусство, преподавание — все действия, направленные на других, по сути состоят в изменении того, что они читают» (LPW 26). В том же самом эссе она развивает понятие «чтение» применительно к упомянутым выше эпистемологическим понятиям явления, эмпирического мира и противоречия:
«Каждый миг нашей жизни мы как бы захвачены извне смыслами, которые мы сами читаем в явлениях. Вот почему мы можем бесконечно спорить о реальности внешнего мира, поскольку то, что мы называем миром, — это смыслы, которые мы читаем. Они нереальны. Но они захватывают нас, как если бы они были внешними. Это реально. Почему мы должны пытаться разрешить это противоречие, когда более важной задачей мышления в этом мире является определение и созерцание неразрешимых противоречий, которые, как сказал Платон, возвышают нас?». (LPW 22)
Важно отметить, что, по мнению Вейль, мы не просто пассивны в процессе чтения — мы можем научиться изменять наше восприятие мира или других людей. Возвышение в чтении, тем не менее, требует научиться любить Бога через вещи этого мира — своего рода внимательности, которая также повлечет за собой участие тела, труда, состояний и опыта. Определенное чтение является результатом определенного образа жизни. В идеале, по мнению Вейль, нам следует читать естественное как освещенное сверхъестественным. Такое понимание чтения включает в себя распознавание на иерархических уровнях, как она объясняет в своих тетрадях:
«Читать необходимость в ощущении, читать порядок в необходимости, читать Бога в порядке. Мы должны любить все факты не за их последствия, а за то, что в каждом факте присутствует Бог. Но это тавтология. Любить все факты — это не что иное, как читать в них Бога». (NB 267)
Таким образом, мир предстает как своего рода текст с несколькими значениями на нескольких стадиях, уровнях или областях.
Эпистемология Вейль обосновывает ее критику современной науки. В «Укоренении» она выступает за науку, «основанную на математически точных методах и в то же время не порывающую связи с верой» (Вейль 2000. — Пер. измен.). Через созерцание мира природы с помощью такого рода науки мир можно было бы читать на нескольких уровнях. Познающий, читая таким образом, поймет, что порядок мира есть то же, что и единство, но различен на его бесчисленных уровнях:
«по отношению к Богу [это] вечная мудрость; по отношению ко Вселенной — совершенное послушание; по отношению к нашей любви — красота; по отношению к нашему разуму — равновесие необходимых отношений; по отношению к нашей плоти — грубая сила». (Вейль 2000)
Как и ее социально-политическая мысль, эпистемология Вейль является своего рода антимодерном. Она рассматривает современную науку и эпистемологию как проект саморасширения, который забывает о границах и считает, что мир должен быть подчинен человеческой власти и автономии. Труд (особенно физический труд, такой как земледелие), следовательно, также играет для нее эпистемологическую роль. Гетерономно подчиняя индивида необходимости на ежедневной основе, он одновременно не дает ему возвеличивать себя и допускает более сбалансированное чтение: интеллект оценивает себя, считывая необходимые отношения одновременно на нескольких уровнях. Это чтение на разных уровнях, преломленное через веру, равносильно своего рода не-чтению, поскольку оно отстраненно, безлично и беспристрастно. Через эти предикаты «чтение» связывается с социальной философией, эстетикой и религиозной философией Вейль. То есть в более поздней философии Вейль эпистемология опирается на метафизику времени, выходящего за пределы разума. Подобно эстетическому вкусу, духовная проницательность — данная Богом и благодатная — позволяет отрекшемуся от себя «я» на высшей стадии его развития читать с наиболее универсальной точки зрения. Таким образом, по мнению Вейль, можно любить одинаково и без разбора, так же как у солнечного света и капель дождя нет предпочтений.
Этика
Центральное понятие этики Вейль — «внимание» (l’attention), которое, хотя тематически и практически присутствует в ее ранних работах, обрело теоретически продуманное выражение в период ее пребывания в Марселе в 1942 году. Внимание — это своего рода этический «поворот» в ее мысли. По сути, это не столько моральная установка или конкретная практика, сколько ориентация, которая, тем не менее, требует напряженного ученичества, обретения способности различать на нескольких уровнях. Это включает в себя распознавание того, что другой переживает в своем страдании; протеста того, кому причинен вред; социальных условий, которые порождают атмосферу страдания; и того факта, что человек волей случая (hazard) в разные моменты в равной степени испытывает страдание.
Внимание направляется не волей, а определенным видом желания без объекта. Это не «мышечное усилие», а «негативное усилие» (WFG 61), подразумевающее отказ от эгоистических проектов и желаний и возрастание восприимчивости ума. Для Вейль как христианского платоника желание, мотивирующее внимание, ориентировано на таинственное благо, побуждающее Бога «сойти» (Вейл 2012: 329). В своем эссе « Размышления об использовании учебных занятий в воспитании любви к » (Вейль 2012: 323-334) Вейль в качестве отправной точки берет молитву, определяемую как «сосредоточенность на Боге всего внимания, на которое способна душа» (Там же: 324). Затем, в рамках своего определения внимания, она описывает своего рода бдительность:
«Внимание заключается в следующем. Мы останавливаем свою мысль и держим ее в состоянии готовности [disponible], не занятой чем-то другим [vide] и способной принять внутрь себя свой предмет. При этом мы держим в себе, в непосредственной близости от мысли, но на более низком уровне и вне контакта с нею, различные приобретенные знания, которыми нам предстоит воспользоваться. … Прежде всего, мысль должна оставаться незанятой [vide], в ожидании [en attente], и не искать более [ne rien chercher], но быть готовой воспринять во всей нагой истине тот предмет, который сейчас в нее войдет». (Там же: 330)
Французский язык делает связь между вниманием (l'attention) и ожиданием (attente) более зримой. Для Вейль проблема поиска, в отличие от ожидания en hupomene (δἰ ὑπομονῆς), состоит именно в том, что человек стремится заполнить пустоту, характеризующую attente. В результате человек слишком быстро останавливается на чем-то: подделке, лжи, идоле. Поскольку при поиске или желании воображение заполняет пустоту (le vide), крайне важно, чтобы внимание было отстраненным и бесстрастным. Действительно, пустота по определению пуста (vide) — от идолов, самопроецирований в будущее, утешений, компенсирующих безмыслие, и стремления к коллективному и личному престижу. Как таковое ее принятие указывает на хрупкость индивида и подверженность разрушению, то есть смертность. Но это принятие смерти есть условие возможности благодати. (Как поясняется ниже применительно к ее религиозной философии, у Вейль понятие диспозиции, характеризующейся этими свойствами внимания, обозначается термином «рас-сотворение», имеющим очевидный теологический подтекст.)
Во внимании человек отрекается от своего эго ради такого восприятия мира, которое не затронуто человеческой ограниченностью и стремлением к потреблению. Это самоопустошение, отрешение от «я» (dépouillement) — в конечном счете, по Вейль, imitatio Christi [подражание Христу] в его кенозисе — допускает безличную, но интерсубъективную этику. Действительно, если первичное внимание направлено на таинственного и неизвестного Бога (часто переживаемого как желание добра), то вторичное — на другого человека, особенно на тех, кто переживает страдания.
«Душа освобождается [se vide] от всего личного, что ее наполняет, чтобы впустить в самоё себя человека, которого она видит таким, каков он есть, по всей истине. На это способен лишь тот, кто способен приложить внимание». (Вейль 2012: 334)
Вейль осведомлена о том обстоятельстве — и проблематизирует его, — что автономное я естественным образом вкладывает себя в свои проекты, а не посвящает себя другому. По этой причине внимание является редким, но необходимым для любой этической установки качеством. Образцовой историей, рассказывающей о внимании, для Вейль является притча о добром самаритянине, в которой, по ее мнению, происходит обмен состраданием, когда один человек «приложил… внимание» к другому человеку, безымянному и страдающему (Там же: 200).
«Все его дальнейшие действия были только лишь автоматическим следствием этого момента внимания. Это внимание созидательно. Но в момент, когда оно возникает, оно есть самоотречение. Во всяком случае, если оно чисто. Человек соглашается на самоумаление, сосредоточиваясь для отдачи энергии, которая не расширит его власть, которая будет существовать только в другом, нежели он, в человеке, независимом от него». (Вейль 2012: 197)
Как таковое внимание не только позволяет человеку узнать о существовании другого и тем самым наделить это существование значимостью, но также позволяет отрекающемуся человеку занять моральную позицию в ответ на его или ее желание блага.
Важно отличать этику внимания Симоны Вейль от канонического понимания этики. Внимание не мотивировано долгом (хотя Вейль считает, что мы обязаны реагировать на телесные или духовные нужды других (SWA 224–225)) или последствиями. Кроме того, внимание, ввиду его чутья к phronesis (практической мудрости), — которое Вейль, через Маркса, заимствует у Аристотеля, — возможно, ближе к этике добродетели, чем к деонтологии или консеквенциализму. Однако оно отличается от традиции этики добродетели в следующих аспектах: внимание зачастую возникает более спонтанно, чем добродетель, которая, по Аристотелю, взращивается посредством привычки, превращаясь в hexis [склад души — Примеч. ред.]; ее акцент на «отрицательном усилии» предполагает активно-пассивную ориентацию, которая противостоит акценту Аристотеля на деятельности (это скорее «поворот», чем «делание», больше направленность, чем достижение); она избыточна в своей щедрости, а не скупа, она широка; ее сверхъестественное вдохновение контрастирует с натурализмом Аристотеля; она не подразумевает телеологию реализации собственных добродетельных проектов — фактически, она их приостанавливает; наконец, по Вейль, Аристотелю недостает чувства безличного блага, на которое направлено внимание (и в этом отношении она опять-таки идет от Платона).
В «Формах неявной любви к Богу» Вейль прослеживает связи между вниманием, пустотой и любовью, опираясь на свою сверхъестественную (христианско-платоническую) метафизику.
«Освободиться [Se vider] от своей ложной божественности, отвергнуться от себя самих, отказаться воображать себя в центре вселенной, понять, что все остальные точки мира – суть его центры в той же мере, как и мы, но что при этом истинный Центр находится вне мира, – все это означает: согласиться с царствованием механической необходимости в материи и с царствованием свободы выбора в каждой душе. Это согласие есть любовь. Лицо этой любви, обращенное к мыслящим личностям, есть любовь к ближнему». (Вейль 2012: 213)
В противоположность обыденному смыслу любви — именно потому, что мы не любим лично, но «это Бог в нас любит несчастных» (Там же: 202), — наша любовь к другим «совершенно безлична» и, следовательно, универсальна (Там же: 258). Однако Вейль допускает «одно законное исключение из обязанности всеобщей любви», а именно дружбу (WFG 51). Дружба — это «личная и человеческая, кото-рая чиста, которая заключает в себе предощущение и отблеск любви божественной» (Вейль 2012: 258), «сверхприродная гармония, союз противоположностей» (Там же: 260).
Противоположности, образующие чудесную гармонию, — это необходимость/повиновение (то есть, опираясь на Мелосский диалог Фукидида, она считает, что человек не может хотеть сохранить автономию одновременно и в себе, и в другом — в мире более сильный проявляет силу через волю) и свобода/равенство (которые поддерживается желанием каждого из друзей сохранить согласие самого себя и другого, согласие оставаться «двумя, но никак не одним» [Там же: 264]). Иными словами, в дружбе частное, само собой разумеющееся прочтение другого не является принудительным. Дистанция сохраняется, и таким образом концепция дружбы Вейль дополняет ее предыдущую критику этоса капитализма, бюрократии и колониализма: свободное согласие всех сторон является существенным компонентом всех не вырожденных и не жестоких человеческих отношений. Следовательно, дружба является более общей моделью этики — даже, вопреки утверждению Вейль, универсальной.
«Дружба есть нечто вселенское. Она заключается в том, чтобы так любить человека, как хотелось бы нам быть в состоянии любить по отдельности каждого человека в мире». (Там же: 265)
Этика внимания образует позднюю социально-политическую философию Вейль и ее эпистемологию. В ее социально-политической философии внимание является тем, что открывает возможность сверхъестественной справедливости, включающей одновременное обращение внимания на Бога и на страдание. Справедливость и любовь к ближнему для нее неотличимы.
«Только безусловное признание тождества между справедливостью и любовью делает одновременно возможными, с одной стороны, сострадание и благодарность, а с другой стороны — уважение к достоинству страдания [malheur], как у самих страдающих [les malheureux par lui-même], так и у остальных». (Там же: 188-189. — Пер. измен.)
Кроме того, внимание, так как оно признает дистанцию и автономию другого, является противоядием от силы. Для эпистемологии Вейль важно, что внимание противостоит чтению, основанному на воображении, неисследованных восприятиях или функциях коллектива (например, престиже). Внимание здесь предстает как независимая, отстраненная мысль. В своем религиозном аспекте, включающем послушание и согласие, внимание также затрагивает эпистемологию Вейль: оно предполагает, что познание реальности мира является не столько индивидуальным достижением или достижением мастерства, сколько даром благодати — открытостью к тому, что невозможно предсказать и что часто застает нас врасплох. Моральной тяжести, естественной склонности людей к расширению своего «я» и несправедливости, благодать противопоставляет внимание как противоядие.
Метафизика и философия религии
Хотя метафизика в позднейшей мысли Вейль была одновременно христианской и платонической, а потому благодатной и сверхъестественной, ее обращение к Богу произошло не вопреки, а, скорее, благодаря ее вниманию к реальности и соприкосновению с миром. Следовательно, неверно, что ее духовный поворот и «теологическая приверженность» (Springsted 2015: 1–2) были разрывом с ее ранним материализмом, солидарностью или марксистскими идеями. Скорее, ее духовное обращение произошло внутри этого контекста, который стал основанием впоследствии сформулированной ей религиозной философии.
В своей поздней мысли Вейль разрабатывает оригинальную теологию творения. Бог, будучи абсолютно благим, бесконечным и вечным, отказался от самого себя (или умалился), чтобы могло существовать нечто иное (нечто менее чем полностью благое, конечное, ограниченное временем и пространством), а именно Вселенная. В этой Вселенной, находящейся вне Бога, неявно присутствует случайность сил. Вейль называет этот принцип случайности, «паутину определенностей» (McCullough 2014: 124), в противоположность Богу, «необходимостью». Необходимость — это «экран» (l'écran), помещенный между Богом и его творениями. Здесь ее метафизика творения перекликается с платоновским различением необходимого и благого в «Тимее». Преломляясь через ее христианство, это [различие] превращается в «высшее противоречие» между творением и творцом, и «именно Христос представляет единство этих противоречий» (NB 386).
Для Вейль очевидно, что Бог и мир меньше, чем один только Бог, но это лишь усиливает значимость отречения Бога. То есть из любви (к тому, чем был бы мир и твари в нем) Бог решил стать меньше. Поскольку существование — отрицание Богом самого себя — является признаком Божьей любви, провидение обнаруживается не в конкретных вмешательствах Бога, — оно постигается в осознании, что Вселенная во всей ее случайности есть сумма Божьих намерений. Следствия этой теологии распространяются и на творения.
Вейль формулирует свою религиозную философию через ряд различий — оппозиций или противоречий. Важно понимать выделяемые ей различия не как дуализмы, а как полагания противоречий, которые, будучи несинтезированными, являются посредниками, через которые возвышается душа. Ее понятие посредника — или metaxu (μεταξύ), греческий термин, который она использует в своих «Тетрадях», — появляется в выраженной форме в 1939 году. Через metaxu Бог косвенно присутствует в мире, в частности, например, в красоте, культурных традициях, законе и труде — и все это позволяет нам контактировать с реальностью. Применительно к этапам ее творчества, понятие опосредования переходит от отношений разума и материи на уровне естественного (что мы находим в раннем периоде) к связи естественного интеллекта с вниманием и любовью на уровне сверхъестественного (поздний период), таким образом делая ее точку зрения более универсальной.
Учитывая, что реальность сама по себе является metaxu, в поздний период Вейль понимает опосредование более универсально, чем предполагается в вышеупомянутых примерах. Для нее реальное (le réel) само есть препятствие, представляющее собой противоречие, препятствие, ощущаемое, например, в трудной идее, в присутствии другого или в физическом труде; таким образом, мысль сталкивается с необходимостью и должна превратить противоречие в соотношение или таинственное и распинающее отношение, приводящее к духовному назиданию. Ее объяснение этого опосредования основано на своеобразной космологии, особенно на парадоксальном утверждении, что то, что часто является болезненной реальностью, как, например, удаленность от Бога, также является промежуточным звеном в отношениях с Богом. Она иллюстрирует это утверждение следующей метафорой:
«Два узника, сидящие в соседних камерах, перестукиваются через стену. Стена — это то, что их разделяет, но также и то, что дает им возможность общаться. Точно так же обстоит дело с нами и Богом. Всякое разделение — это одновременно и связь». (Вейль 2008: 178)
Развивая свою концепцию реального, Вейль старается отличить его от воображаемого. Воображение, в ранней период осмысляемое на эпистемологических основаниях, снова подвергается критике в ее религиозной философии за его коварную тенденцию давать ложные утешения, провоцирующие одновременно идолопоклонство и самодовольство, устраняя реальное созерцание. Вот почему рассотворение, в котором индивид отказывается от своего «я» и личной перспективы, чтобы позволить реальному и другим явить себя, имеет решающее значение не только в духовном, но и эпистемологическом и этическом аспектах. Именно поэтому Вейль предполагает, что атеизм может быть своего рода очищением: в нем отрицается религиозное утешение, заполняющее пустоту.
Реальное возвращает нас к вышеупомянутому понятию «необходимости», ибо реальность — сущностно детерминированная, ограниченная, случайная и условная — сама является «сетью необходимости» (Vetö 1971 [1994: 90]), так что необходимость есть ее отражение. Более того, подобно понятию власти в ранний период и понятию силы в средний, «необходимость» у Вейль включает в себя не только физические силы сотворенного мира, но и социальные силы человеческой жизни. В понятии необходимости Вейль сохраняет свое ощущение рабства, ибо люди неизбежно подчиняются необходимости. Таким образом, подчинение неподвластным нам силам сущностным образом вплетено в человеческое состояние.
Время, в противоположность вечному Богу, наряду с пространством и материей, есть прежде всего самая основная форма необходимости. В своем постоянном напоминании об отдаленности от Бога, в переживании терпения и ожидания время также болезненно. Христианский платонизм Вейль обнаруживается в двух наиболее ярких метафорах, которые она использует для обозначения времени, а именно: пещера Платона и христианский крест. В обоих случаях время — это тяжесть или тяга необходимости, через которую душа во всяком усилии своего «я» чувствует себя уязвимой, случайной и неизбежно подверженной посредничеству необходимости здесь, внизу (ici-bas).
Важно, что к 1942 году в Нью-Йорке понятие времени у Вейль тяготеет к Платону и противопоставляется тому, что она считает христианской ориентацией на прогресс:
«Христианство ответственно за то, что привнесло в мир ранее неизвестную идею прогресса, и эта идея, став проклятием современного мира, дехристианизировала его. Мы должны оставить эту идею. Мы должны избавиться от нашей иррациональной веры в хронологию, чтобы найти вечность». (LPr 29)
По Вейль, прогресс не несет в себе нормативных следствий улучшения, поскольку благо вечно и не существует во времени и пространстве. Время нужно принимать, его нужно выстрадать, а не убегать от него. Как и Иисус на кресте, твари не могут спастись иначе, чем через страдание. Таким образом, она предлагает использовать страдание сверхъестественным способом, а не ищет от него лекарства. Одна из форм греха, в таком случае, — это пытаться убежать от времени, так как вне времени находится только Бог. Тем не менее время парадоксальным образом также может быть metaxu. Если монотонность, предстающая как качающийся маятник или фабричный труд, ужасна и утомительна, то как отражение вечности в форме круга (который объединяет бытие и становление) или звуков григорианского пения она прекрасна. Эта красота мира предполагает, если рассматривать ее с отстраненной точки зрения, порядок, стоящий за необходимостью, и Бога, стоящего за порядком.
Второй формой необходимости является «тяжесть» (pesanteur), отличающаяся от сверхъестественной благодати. В то время как тяжесть обозначает силы природного мира, физически, материально и социально подчиняющие все сотворенные существа и, таким образом, действующие как «тяга» на «повороте» к Богу и страждущим, благодать как противовес — это благость и воздействие Бога. Благодать пронизывает мир необходимости и служит для ориентации, гармонизации и равновесия, обеспечивая таким образом своего рода «сверхъестественный хлеб» для насыщения человеческой пустоты. Благодать, входя в эмпирический мир, располагает человека к очищению отрешенностью, ожиданием блага, которое реально, но которое никогда не могло бы «существовать» в материальном смысле (т. е. не могло бы подчиниться времени, изменениям, силе и т.д.).
Сама форма креста отражает это пересечение горизонтального (необходимость) и вертикального (благодать).
Понятие необходимости у Вейль связано с ее поздним пониманием субъекта. Она связывает представление о себе как о центре мира с представлением о своей исключенности из необходимости. С этой точки зрения, если со мной что-то случится, мир перестанет иметь какое-либо значение. Поэтому, заключает самоуверенное и своевольное «я», с ним ничего не должно случиться. Страдание противоречит такому видению и, таким образом, насильственно изгоняет самость из центра. В отличие от своих современников-экзистенциалистов, таких как Сартр, Вейль не мыслила человеческую свободу через агентность; для поздней Вейль люди свободны не онтологически, как присутствие по отношению к себе, а сверхъестественно — через послушание и согласие.
Первое — и здесь, в обращении к amor fati, проступает ее стоицизм, подчерпнутый у Марка Аврелия и Спинозы, — это установка, подразумевающая согласие с необходимостью и любовь к порядку мира, то есть принятие божественной воли. Согласие, следовательно, есть своего рода примирение в ее диалектике необходимого и благого. Согласие не следует из усилия или воли — оно выражает онтологический статус, а именно рассотворение.
6. Эстетика
Метафизика Вейль добавляет ясности ее эстетике, преимущественно кантианской и платонической. По мнению Вейль, красота — это ловушка (à la Гомер), которую установил Бог и которая ловит душу, чтобы в нее мог войти Бог. Необходимость являет себя не только в тяжести, времени и страдании, но также и в красоте. Соприкосновение безличного блага с чувственной способностью — это красота; соприкосновение зла с чувственной способностью — это уродство и страдание. Оба они соприкасаются с реальностью, необходимостью, промыслом.
В эстетике Вейль стоит на позициях реализма, поскольку говорит о схваченности или захваченности красотой, связующей ум, тело, мир и Вселенную. Вплетенная в мир, но не опирающаяся только на ум или чувства человека, красота притягивает и порождает осознание чего-то вне «я». В парадоксальных терминах, по мнению Вейль, следующей в этом Канту, эстетический опыт можно охарактеризовать как незаинтересованную заинтересованность; в противоположность Канту, телос такого опыта, по ее мнению, является платоническим — привести душу к созерцанию блага. Более того, красота целесообразна лишь потому, что производна от блага, то есть потому, что порядок мира есть функция Бога.
В то же время понятие прекрасного у Вейль не только исходит из платонизма и поэтому связано с вечностью, но также отталкивается от ее опыта Христа и потому несет черты воплощения: идеал может стать реальным в мире. Прекрасное как таковое — это свидетельство и проявление баланса сети неизменной необходимости, которую представляет собой мир природы, — сети, которая, в некотором смысле, может быть схвачена интеллектом. Именно таким образом — не как онтологическая категория, а, скорее, как чувственный опыт — через прекрасное необходимость становится объектом любви (то есть, в терминах Канта, красота регулятивна, а не конститутивна). Таким образом, прекрасное — это metaxu, притягивающая душу к Богу, и в качестве metaxu прекрасное является «локусом несоизмеримости» (Winch 1989: 173) между хрупкой случайностью времени (изменением, становлением, смертью) и вечной реальностью.
Поскольку прекрасное — это порядок мира в качестве необходимости, оно, строго говоря (и согласно тому, как Вейль понимает провидение), является универсальным.
Более конкретно, на уровне отдельных вещей существуют типы прекрасного, которые, тем не менее, демонстрируют баланс, порядок, пропорцию и божественное происхождение (это обнаруживается в науке, искусстве и природе).
Когда мы замечаем прекрасное или порядок в мире, для нас это имеет определенные последствия. Поскольку прекрасное созерцается в отдалении и согласии, а не потребляется жадной волей, оно учит душу быть отстраненной перед лицом чего-то неведомого, и в этом смысле прекрасное похоже на страдание.
Поскольку прекрасное, как нечто внешнее для человека, должно получить согласие, в нем одновременно подразумевается, что реальность человека ограничена и что он/она не хочет менять модус своей деятельности. Более того, в прекрасном есть безличностный аспект, который вступает в контакт с человеком. Реальное взаимодействие с прекрасным приводит к рассотворению. В соответствии с этим утверждением, эстетические взгляды Вейль отражаются в ее стиле письма: в своей пронзительной прозе она тщательно исследует собственную мысль, стремясь исключить свой собственный голос и избежать отсылок к себе; таким образом, она осуществляет «лингвистическое рассотворение себя» (Dargan 1999: 7).
Рецепция и влияние
Хотя пришедшие на смену Вейль французские постструктуралисты не погружались глубоко в ее философию, ее концепции наследуются ее современниками во Франции и последователями в других странах (Rozelle-Stone 2017). Среди ее поколения французских мыслителей влияние ее понятия «внимание» можно найти в работах Мориса Бланшо; ее платоническое представление о благе, порядке и чистоте было усвоено — и отвергнуто — Джорджем Батаем и Эммануэлем Левинасом. Вслед за этим поколением молодой Жак Деррида разделил интерес Вейль к мистицизму, а именно к очищающему атеизму, практически не упоминая ее среди своих поздних источников (Baring 2011). Возможно, причиной столь ограниченного влияния Вейль на постструктуралистов было не только то, что она не испытала столь сильного влияния Ницще и Хайдеггера, как упомянутые французские мыслители, но также и то, что она не пережила Вторую мировую войну и, следовательно, не писала после нее. Также важно отметить, что в течение всей жизни статус Вейль как женщины-философа способствовал нападкам непосредственно на нее как на личность, а не на ее мысль: ее часто считали «психологически холодной», что противоположно вовлеченности в «этический проект с разнообразными предпосылками» (Nelson 2017: 9).
Среди более современных европейских философов идею «негативно политики» Вейль — то есть отказ от институтов и идеологии в пользу религиозной рефлексии — (привнося сюда понятие биополитики Мишеля Фуко) восприняли политические философы Джорджо Агамбен и Роберто Эспозито (Ricciardi 2009). При этом Агамбен (который написал диссертацию о политической мысли Вейль и ее критике личности — идеях, которые затем сформировали Homo Sacer (см. Agamben 2017)) и Эспозито опираются на понятия рассотворения, безличности и силы. Вне континентальной традиции ее христианский платонизм — особенно ее понятия блага, справедливости, пустоты и внимания — повлияли на Айрис Мердок и ее понимание блага, метафизики и блага, таким образом став частью недавнего возрождения этики добродетели (Crisp, Slote 1997). Наследие текстов Вейль о страдании и прекрасном в их связи с правосудием также прослеживается в работах Элайн Скарри, посвященных эстетике (Scarry 1999). Т.С. Элиот, написавший введение к «Укоренению», говорит о Вейль как об источнике вдохновения в своей литературной деятельности, также как и Оден, Чеслав Милош, Симус Хини, Фланнери О'Коннор, Сьюзен Сонтаг и Энн Карсон.
В англо-американской академической традиции исследователи Вейль особое внимание уделяют ее понятию сверхъестественной справедливости, включая философские противоречия, которые формируют ее материализм и мистицизм (Winch 1989; Dietz 1988; Bell 1993, 1998; Rhees 2000). Также рассматривают ее христианский платонизм (Springsted 1983; Doering & Springsted 2004). Недавние англоязычные исследования Вейль рассматривают ее понятие силы (Doering 2010), ее радикализм (Rozelle-Stone & Stone 2010) и то, как в ее текстах связаны наука и божественное (Morgan 2005), страдание и травма (Nelson 2017), этика и рассотвроение (Cha 2017). Более того, ее концепции повлияли на недавние работы по вопросам идентичности (Cameron 2007), политической теологии (Lloyd 2011) и животного начала (Pick 2011).
Библиография
Цитируемые работы Вейль (рус.)
● Вейль С. (2008). Тяжесть и благодать. М.: Русский путь.
● Вейль С. (2000). Укоренение. Письмо клирику. К.: Дух i лiтера.
● Вейль С. (2012). Формы неявной любви к Богу. СПб.: Свое издательство.
Цитируемые работы Вейль (англ.)
● [FLN], 1970, First and Last Notebooks, Richard Rees (trans.), Oxford: Oxford University Press.
● [FW] 1987, Formative Writings: 1929–1941, Dorothy Tuck McFarland and Wilhelmina Van Ness (eds. and trans.), Amherst, MA: The University of Massachusetts Press.
● [GG] 1947 [2004], Gravity and Grace, Emma Crawford and Mario von der Ruhr (trans), New York: Routledge; La pesanteur et la grâce, Paris: Librairie Plon, 1947.
● [LP] 1959 [1978], Lectures on Philosophy, Hugh Price (trans.), New York: Cambridge University Press; Leçons de philosophie, Paris: Union Générale d’Éditions, 1959.
● [LPr] 1951 [2002], Letter to a Priest, A. F. Wills (trans.), London: Routledge; Lettre à un religieux, Paris: Gallimard, 1951.
● [LPW] 2015, Simone Weil: Late Philosophical Writings, Eric O. Springsted and Lawrence E. Schmidt (trans.), Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
● [NB] 1956, The Notebooks of Simone Weil, Arthur Wills (trans.), 2 vols., New York: G. P. Putnam’s Sons.
● [NR] 1949 [2002], The Need for Roots: Prelude to a Declaration of Duties toward Mankind, Arthur Wills (trans.), New York: Routledge; L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Paris: Éditions Gallimard, 1949.
● [OL] 1955 [2001], Oppression and Liberty, Arthur Wills and John Petrie (trans.), New York: Routledge; Oppression et liberté, Paris: Éditions Gallimard, 1955.
● [SE] 1962, Selected Essays: 1934–1943, Richard Rees (trans.), London: Oxford University Press.
● [SL] 1965, Seventy Letters, Richard Rees (trans.), London: Oxford University Press.
● [SWA] 2005, Simone Weil: An Anthology, Siân Miles (ed.), New York: Penguin.
● [WFG] 1966 [2009], Waiting for God, Emma Craufurd (trans.), New York: HarperCollins; Attente de Dieu, Paris: Éditions Fayard, 1966.
Другие работы Вейль
● Écrits de Londres et dernières lettres, Paris: Gallimard, 1957.
● Écrits historiques et politiques, Paris: Gallimard, 1957.
● La condition ouvrière, Paris: Gallimard, 1951.
● La connaissance surnaturelle, Paris: Gallimard, 1950.
● Intimations of Christianity among the Ancient Greeks, Elisabeth Chase Geissbuhler (ed. and trans.), London: Routledge and Kegan Paul, 1957.
● Intuitions pré-Chrétiennes, Paris: La Colombe, 1951.
● On Science, Necessity, and the Love of God, Richard Rees (trans.), London: Oxford University Press, 1968.
● On the Abolition of All Political Parties, Simon Leys (trans.), New York: New York Review of Books, 2013.
● Oeuvres complètes, André Devaux and Florence de Lussy (eds.), 7 vols., 1988–2012.
● Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu, Paris: Gallimard, 1962.
● Simone Weil on Colonialism: An Ethic of the Other, J.P. Little (ed. and trans.), Lanham, MA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003.
● Sur la science, Paris: Gallimard, 1966.
● “The Iliad, or the Poem of Force”, Mary McCarthy (trans.), Politics, November 1945, pp. 321-330, available online.
Избранные вторичные источники
● Agamben, Giorgio, 2017, “Philosophy as Interdisciplinary Intensity—An Interview with Giorgio Agamben”, interviewed by Antonio Gnolio, translated by Ido Govrin, Journal for Cultural and Religious Theory, 02/06/2017, available online.
● Allen, Diogenes and Eric O. Springsted, 1994, Spirit, Nature and Community: Issues in the Thought of Simone Weil, (Simone Weil Studies), Albany, NY: SUNY Press.
● Avery, Desmond, 2008, Beyond Power: Simone Weil and the Notion of Authority, New York: Lexington Books.
● Baring, Edward, 2011, The Young Derrida and French Philosophy, 1945–1968, New York: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511842085
● Bell, Richard H. (ed), 1993, Simone Weil’s Philosophy of Culture: Readings toward a Divine Humanity, New York: Cambridge University Press.
● –––, 1998, Simone Weil: The Way of Justice as Compassion, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
● Bingemer, Maria Clara, 2011 [2015], Simone Weil: una mística a los límites, Bueonos Aires: Ciudad Nueva. Translated as Simone Weil: Mystic of Passion and Compassion, Karen M. Kraft (trans.), Eugene, OR: Cascade Books, 2015.
● Blum, Lawrence A. and Victor J. Seidler, 2010, A Truer Liberty: Simone Weil and Marxism, New York: Routledge Revivals.
● Cameron, Sharon, 2007, Impersonality: Seven Essays, Chicago: University of Chicago Press.
● Cha, Yoon Sook, 2017, Decreation and the Ethical Bind, New York: Fordham University Press.
● Chenavier, Robert, 2009 [2012], Simone Weil, l'attention au réel, Paris: Michalon. Translated as Simone Weil: Attention to the Real, Bernard E. Doering (trans.), Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2012.
● Crisp, Roger and Michael Slote (eds.), 1997, Virtue Ethics, New York: Oxford University Press.
● Dargan, Joan, 1999, Simone Weil: Thinking Poetically, (Simone Weil Studies), Albany, NY: SUNY Press.
● Dietz, Mary, 1988, Between the Human and the Divine: The Political Thought of Simone Weil, Totowa, NJ: Rowman & Littlefield.
● Doering, E. Jane, 2010, Simone Weil and the Specter of Self-Perpetuating Force, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
● Doering, E. Jane and Eric O. Springsted (eds.), 2004, The Christian Platonism of Simone Weil, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
● Dunway, John M. and Eric O. Springsted (eds.), 1996, The Beauty that Saves: Essays on Aesthetics and Language in Simone Weil, Macon, GA: Mercer University Press.
● Esposito, Roberto, 1996 [2017], L'Origine della politica: Hannah Arendt o Simone Weil?, Rome: Donzelli Editore. Translated as The Origin of the Political: Hannah Arendt or Simone Weil, Vincenzo Binetti and Gareth Williams (trans.), New York: Fordham University Press, 2017.
● Finch, Henry Leroy, 2001, Simone Weil and the Intellect of Grace, Martin Andic (ed.), New York: Continuum.
● Holoka, James P. (ed. and trans.), 2005, Simone Weil’s the Iliad or the Poem of Force: A Critical Edition (Iliade, ou, le poème de la force), New York: Peter Lang.
● Lévinas, Emmanuel, 1952 [1990], “Simone Weil contre la Bible”, Evidences, 24: 9–12. Translated as “Simone Weil against the Bible” in his Difficult Freedom: Essays on Judaism (Difficile liberté), Seán Hand (trans.), Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, pp. 133–141.
● Lloyd, Vincent, 2011, The Problem with Grace: Reconfiguring Political Theology, Stanford, CA: Stanford University Press.
● McCullough, Lissa, 2014, The Religious Philosophy of Simone Weil: An Introduction, New York: I.B. Tauris.
● McLellan, David, 1990, Utopian Pessimist: The Life and Thought of Simone Weil, New York: Poseidon Press.
● Morgan, Vance, 2005, Weaving the World: Simone Weil on Science, Mathematics, and Love, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
● Nelson, Deborah, 2017, Tough Enough: Arbus, Arendt, Didion, McCarthy, Sontag, Weil, Chicago: The University of Chicago Press.
● Perrin, J.M. and G. Thibon, 2003, Simone Weil as We Knew Her, New York: Routledge.
● Pétrement, Simone, 1973 [1976], La vie de Simone Weil, Paris: Fayard. Translated as Simone Weil: A Life, Raymond Rosenthal (trans.), New York: Pantheon Books, 1976.
● Pick, Anat, 2011, Creaturely Poetics: Animality and Vulnerability in Literature and Film, New York: Columbia University Press.
● Rhees, Rush, 2000, Discussions of Simone Weil, (Simone Weil Studies), D.Z. Phillips (ed.), Albany, NY: SUNY Press.
● Ricciardi, Alessia, 2009, “From Decreation to Bare Life: Weil, Agamben, and the Impolitical”, Diacritics, 39(2): 75–84, 86–93. doi:10.1353/dia.2009.0014
● Rozelle-Stone, A. Rebecca (ed.), 2017, Simone Weil and Continental Philosophy, London: Rowman & Littlefield International.
● Rozelle-Stone, A. Rebecca and Lucian Stone (eds.), 2010, The Relevance of the Radical: Simone Weil 100 Years Later, New York: Continuum.
● –––, 2013, Simone Weil and Theology, New York: Bloomsbury T&T Clark.
● Scarry, Elaine, 1999, On Beauty and Being Just, Princeton, NJ: Princeton University Press.
● Springsted, Eric O., 1983, Christus Mediator: Platonic Mediation in the Thought of Simone Weil, Chico, CA: Scholars Press.
● –––, 1986, Simone Weil and the Suffering of Love, Eugene, OR: Wipf and Stock.
● ––– (ed.), 1998, Simone Weil: Essential Writings, Maryknoll, NY: Orbis Books.
● –––, 2010, “Mystery and Philosophy”, in The Relevance of the Radical: Simone Weil 100 Years Later, A. Rebecca Rozelle-Stone and Lucian Stone (eds), New York: Continuum, pp. 91–104.
● –––, 2015, “Introduction: Simone Weil on Philosophy”, in Eric O. Springsted (ed.), Simone Weil: Late Philosophical Writings, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, pp. 1–19.
● Vetö, Miklos, 1971 [1994], La métaphysique religieuse de Simone Weil, Paris: J. Vrin. Translated as The Religious Metaphysics of Simone Weil, (Simone Weil Studies), Joan Dargan (trans.), Albany, NY: SUNY Press, 1994.
● Von der Ruhr, Mario, 2006, Simone Weil: An Apprenticeship in Attention, London: Continuum.
● Winch, Peter, 1989, Simone Weil: “The Just Balance”, New York: Cambridge University Press.








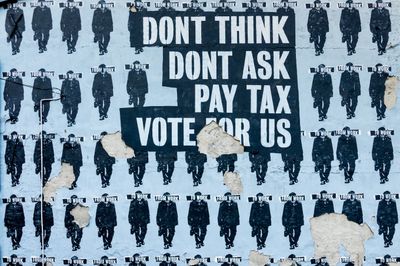

.jpg)




