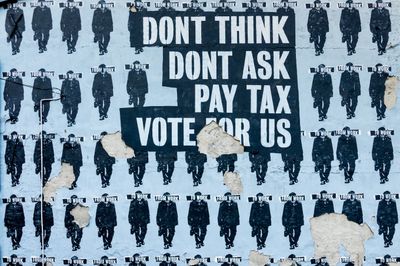Надежда
Впервые опубликовано 8 марта 2017 года.
Размышления о надежде можно встретить на протяжении всей истории философии и во всех западных философских традициях, пускай ей, как правило, уделяли меньше внимания, чем верованию (убеждению) и желанию. И хотя исторически сложилось так, что надежду редко обсуждали систематически — важными исключениями здесь являются Фома Аквинский, Эрнст Блох и Габриэль Марсель — почти все крупные философы признавали, что надежда играет важнейшую роль в человеческой мотивации, религиозных верованиях или в политике. Рассуждения о значимости роли надежды зачастую были частью отдельных философских проектов. Современные интерпретации надежды предоставляют независимые объяснения ее природы и отношения к прочим ментальным явлениям, таким как желание, намерение (интенция) и оптимизм.
Введение
В сравнении с более широко обсуждаемыми установками сознания, такими как убеждения (верования) и желания, феномен надежды представляется несколько более проблематичным как для теорий сознания, так и для теорий ценности. Надежда имеет не только когнитивные составляющие — она также учитывает факты, касающиеcя возможности и вероятности будущих событий. У нее также есть конативный [от лат. conatus — усилие, намерение, импульс, склонность, — прим. ред.] элемент — надежды отличаются от простых ожиданий, поскольку они отражают наши желания и опираются на них.
В рамках классического анализа надежды — в разделе 3 мы называем его «стандартным подходом» — последняя рассматривается как смешанная установка, в которую входит желание некоторого результата и вера в его возможность. Однако не все результаты, в возможности которых мы уверены и которые мы желаем, составляют предмет надежды. Чтобы надеяться, нужно не только считать некоторый результат возможным, но иметь к нему особую аффективную привязанность. Отсюда возникает вопрос: можно ли свести надежду к верованиям и желаниям?
В обыденной речи надежда выступает синонимом оптимизма. Но если оптимизм вполне можно представить в качестве желания некоего результата и убежденности в его вероятности (или же в том, что он более вероятен, чем люди обычно полагают, опираясь на те или иные доказательства), по мнению многих философов правильным образом понятая надежда вовсе не зависит от оценок вероятности (см. раздел 3). Можно надеяться на результат, который я считаю едва ли вероятным и который я не ожидаю, например, чудесное исцеление от болезни. В таких ситуациях оптимизм не является уместной реакцией.
Остается открытым вопрос, какую долю в человеческой агентности имеет надежда. Следует ли ее отождествить с глубинными желаниями, или же надежда имеет самостоятельный вес в мотивации и рассуждении? Если допустить, что надежда не имеет самостоятельной роли в практическом рассуждением, но по-прежнему играет мотивирующую роль, возникает подозрение, что она искажает нашу рациональную агентность.
Такую оценку можно часто встретить на протяжении всей истории философии, но тем не менее и мыслители прошлого, и наши современники добавляют к желанию-верованию также и другие внешние элементы, объясняя с их помощью, почему действие, основанное на надежде, (иногда), является рациональным.
Философская история надежды
На протяжении истории оценка надежды менялась в зависимости от господствующих воззрений на взаимоотношения человеческих действий и будущего. Если «человеческая ситуация» мыслилась сущностно неизменной, то надежда чаще рассматривалась как производная от простой эпистемической неопределенности, амбивалентно влияющая на человеческое счастье.
Античные представления о надежде
В ранней греческой философии надежда зачастую считалась принадлежностью тех, кто обладает недостаточным знанием или легко принимает желаемое за действительное. Из-за этого она по большей части пользовалась дурной славой (Vogt forthcoming): считалось, что она расстраивает действие и ведет людей в неверном направлении. Уже Солон анализировал пустые надежды (см. Lewis 2006: 85; Caston and Kaster 2016). В диалогах Фукидида часто отмечается, что надеющиеся обычно плохо осознают свою ситуацию и не способны осуществить задуманное, так что война оказывается для них сущим бедствием («История», 5.102–103, 5.113).
Более тонкий подход, как нередко считается, был предложен Гесиодом в пересказе истории Пандоры. Когда все пороки покинули ящик Пандоры, как известно, осталась одна лишь надежда (elpis) («Труды и дни», § 90). Судя по всему, отсюда следует, что надежда также способна укрепить человеческую агентность в условиях повсеместного зла.
Однако следует заметить, что финал истории можно объяснить различными способами (Verdenius 1985): осталась ли надежда в ящике для того, чтобы люди смогли ей воспользоваться, или, скорее, она осталась в нем для того, чтобы им не достаться? Следует ли ее считать, соответственно, благом («утешение человека в его несчастье и побуждение его к деятельности», Verdenius 1985: 66) или же злом («тщетная надежда лентяя, которой он оправдывается вместо того, чтобы честно трудиться», Verdenius 1985: 66)? История философии дает нам множество разных интерпретаций мифа о Пандоре (особенно это касается авторов-экзистенциалистов, см. раздел 2.5).
В «Тимее» Платон также придерживается отрицательного мнения о надежде, когда пересказывает миф, согласно которому божества дали нам «в придачу двух неразумных советчиц — дерзость и боязнь… и надежду, которая не в меру легко внемлет обольщениям» (69b). В «Филебе», напротив, он несколько более положительно высказывается о роли надежды в жизни человека. Надежда обсуждается в рамках спора о «ложных удовольствиях».
Другой античный подход, наделяющий надежду не одной лишь отрицательной ролью, представлен у Аристотеля, чей разбор надежды в рамках обсуждения добродетели мужества привлек некоторое внимание (Gravlee 2000; Lear 2008).
С одной стороны, Аристотель описывает отношения между надеждой и мужеством как противоположные. Он выделяет два источника надежды, которые не имеют отношения к мужеству: во-первых, вполне возможно надеяться «и в бурю, и при недугах», но такая надежда не включает в себя мужество, коль скоро в подобных ситуациях вовсе не «требуется доблесть» и смерть не «прекрасна» («Никомахова этика» 3.6, 1115a35ff).
Во-вторых, можно надеяться, опираясь на предшествующие удачи («Никомахова этика» 3.8, 1117a10ff). В этом случае вера в вероятность благого исхода не обоснована, а проистекает из простой индукции. Обе указанные разновидности надежды не имеют отношения к мужеству. С другой стороны, связь между надеждой и мужеством все-таки имеется — и ее предоставляет понятие уверенности (Gravlee 2000).
К примеру, Аристотель говорит:
Итак, хотя не всякий надеющийся человек мужественен, всякий мужественный человек надеется. Надежда создает уверенность, уверенность же, исходящая из верного источника, может привести к добродетели мужества. Грэвли (Gravlee 2000: 471ff) выделяет два дополнительных соображения, связанных с ценностью надежды у Аристотеля.
Во-первых, надежда подкрепляет рассуждение, которое требуется для всякого проявления добродетельного свойства.
Во-вторых, надежда представляется ценной в ее связи с молодостью и добродетелью мегалопсихии, или великодушия: надежда подталкивает нас к стремлению к благородству.
Вероятно, неудивительно, что надежда получила куда менее благосклонные оценки у философов-стоиков. В частности, Сенека подчеркивает взаимосвязь надежды и страха (это представление в дальнейшем разовьет Спиноза, см. раздел 2.3):
Согласно Сенеке, следует избегать как страха, так и надежды, и вместо этого, сосредотачиваясь на настоящем, развивать в себе душевное спокойствие.
Христианские авторы о надежде
Если до христианства надежда рассматривалась главным образом как установка по отношению к реальности, которая опирается на недостаточное понимание истины или блага и вследствие этого если и может привести к добродетельному действию, то лишь по случаю, то христианские философы, такие как Августин и Фома Аквинский, напротив, считали надежду одной из важнейших добродетелей верующего человека. Именно постольку, поскольку она способна оправдывать действие без всякой ссылки на знание, надежда является частью рациональной веры.
Уже в призыве апостола Павла к расширению христианского сообщества за пределы Моисеева закона надежда играет ключевую роль. По словам Павла, надеяться можно лишь на неопределенное (Рим. 8:24; см. также «О граде Божьем» Августина, кн. XIX, § IV).
Тем не менее подобного рода надежда может проистекать из опыта страдания, если данный опыт рассматривается через призму веры (Рим. 5:3–5) и если желание спастись от страдания подкрепляется уверенностью в том, что впоследствии человека не постигнет разочарование.
Вместо законопослушания с оглядкой на прошлое (ассоциируемого Павлом с иудейской верой) мы видим здесь надежду, обращенную в будущее, которая составляет неотъемлемую часть надлежащего отношения к Богу. Чтобы подчеркнуть, что надежда не требует доказательств, Павел приводит фигуру Авраама, который «сверх надежды, поверил с надеждою» (Рим. 4:18).
Блаженный Августин систематично разбирает надежду во второй главе своего «Энхиридиона Лаврентию о вере, надежде и любви» (ок. 420). Надежда здесь отличается от веры, которая также опирается на неполные доказательства, двумя характеристиками.
Во-первых, надежда по необходимости направлена на будущие события, в то время как вера может также относиться к прошлым событиям (таким как воскресение Христа). Во-вторых, надежда относится лишь к тому, что хорошо для надеющегося, тогда как вера может также относиться к тому, что для него плохо (например, к наказанию за грехи).
Наконец, надежда, вера и любовь связаны друг с другом: лишь если человек любит будущее исполнение Божьей воли и надеется на него, он может прийти к правильной вере («Энхиридион», II.7). Поскольку любовь предоставляет для веры и надежды (а в некотором смысле и для «желающей» составляющей надежды) нормативную перспективу, любовь рассматривается Августином как более основоположная добродетель, чем надежда («Энхиридион», XXX.114).
Надежда на жизнь после смерти также играет важную роль в политической философии Августина. В «О граде Божьем» он отличает нынешний земной град от небесного града, который существует лишь в надежде на Бога («О граде Божьем», кн. XV, § XXI), — последний град представляет собой опорную точку для христианских воззрений на политику.
Тем не менее надежда не только дает видение политики, превосходящее узкую перспективу политики классической (Dodaro 2007); надлежащее истолкование надежды также преобразует наше понимание традиционных политических добродетелей, так как она перенаправляет их цели с земного на небесный град.
Один из примеров такого преобразования — наказание: посредством надежды христианский государь будет заботиться не только о сообразности наказания, но в том числе и о возможном исправлении преступника («О граде Божьем», кн. V, § XXIV).
В одном из своих писем к подпрефекту Африки Македонию Августин наконец подчеркивает, что надежда на будущую жизнь лежит в основе всякого истинного человеческого счастья как на уровне индивида, так и на уровне государства (письмо 155, § 4–8, см. Augustine 2001: 91–94).
Следовательно, надежда является важнейшей заботой не только отдельных верующих, но и государей, которые пекутся о коллективном счастье, коль скоро внимание к надежде позволяет им достичь политического устройства, реализующего истинную добродетель граждан (см. также Dodaro 2007).
Если Августин более или менее исключительно занят значением надежды для наших поисков благой христианской жизни, то «Сумма теологии» Фомы Аквинского содержит весьма обширное обсуждение надежды, которое простирается до тех ее разновидностей, которые не связаны с верой.
В своем анализе надежды (надежды как таковой, независимо от ее теологического значения), Аквинат указывает, что надежда является одной из «страстей гневности» (то есть страстей, которые противодействуют нашим непосредственным порывам, SsS III,26; ST I-II 40.1). По его словам, надежда всегда направлена на благо, находящееся в будущем. Однако, в отличие от простого желания, предметами надежды оказываются маловероятные или труднодостижимые результаты, но которые, однако, не выходят за пределы области возможного (ST I-II 40.1). Поскольку последняя часть определения подразумевает познание возможности, надежда всегда частично основывается на опыте (ST I-II 40.5).
Фома Аквинский также представил сложный и тонкий взгляд на рациональность надежды. С одной стороны, он признает, что из-за недостатка опыта мы можем не замечать некоторые препятствия. Эта склонность (как и пьянство, ST I-II 40.6) может вызывать у нас (иррациональную) надежду.
С другой стороны, он допускает, что надежда может подкреплять рациональную агентность: коль скоро в нее входят знание возможного и знаниео трудностях достижения желаемого результата, она может побудить агентов посвятить себя своей деятельности.
Из-за этой двусмысленности надежда у Фомы не является добродетелью в обычном смысле слова. У людей может быть преизбыток или недостаток надежды как страсти (ST II-II 17.5); более того, страсти по определению не являются добродетелями.
Все меняется, однако, как только мы начинаем рассматривать теологическую надежду, то есть надежду, которую мы можем возлагать на Бога.
Во-первых, будучи направленной на Бога, такая надежда не знает никакого избытка.
Во-вторых, мы не можем понимать ее как страсть — скорее, она должна пониматься как привычка воли.
Надежда как страсть вызывается лишь только чувственными благами (и потому мотивирует действие в той мере, в которой субъект осознает себя способным на реализацию такого блага), однако мы также можем надеяться на Божью помощь (ST II-II 17.1) в достижении вечного счастья (ST II-II 17.2). Поскольку вечная жизнь и счастье не являются чувственными благами, такая разновидность надежды не может быть страстью — она может располагаться лишь в воле (ST II-II 18.1).
Коль скоро надежда есть привычка воли, мы не можем ей распоряжаться — она дается лишь благодатью (ST II-II 17.1). Отсюда следует, что в этом смысле человек не может возлагать надежду на других людей и не может надеяться (разве что косвенно) на счастье других — он может надеяться только на Бога.
Из-за этих двух характеристик надежда представляет собой теологическую добродетель (ST II-II 17.5; см. также 1Кор. 13). В то время как любовь (или милосердие) направлена на Бога и единение с Ним, вера и надежда также направлены на Бога с тем, чтобы через это единение достичь некоего блага: вера обращается к Богу как источнику знания, надежда — как к источнику благости (ST II-II 17.6).
Рациональность теологической надежды, по Аквинату, можно должным образом понять лишь тогда, когда мы признаем, что ей предшествует вера (на которой основывается в убежденность в возможности спасения) — при такой вере надежда на благо спасения является рациональной. Отчаяние, вызванное отсутствием веры или же желанием быть спасенным, есть грех (ST II-II 20.1). Поскольку надежда по определению направлена на будущее, ее могут иметь лишь люди, неуверенные в том, благословлены они или прокляты, в то время как любовь упорствует, даже если их окончательная судьба уже была раскрыта (ST II-II 18.2–3).
Надежда в философии XVII–XVIII веков
В философии XVII–XVIII столетий большинство философов рассуждали о надежде в контексте общих теорий мотивации и познания. Ее часто понимали в качестве «страсти», то есть сущностно некогнитивной установки (даже если в ее состав мог входить элемент верования или убеждения).
Следовательно, они отвергали классификацию страстей Фомы Аквинского в пользу моральной психологии, которая рассматривала эмоции и желания вместе в качестве страстей, порождающих действие; надежда представлялась разновидностью таких страстей.
Почти все авторы, упоминаемые ниже, также придерживались той или иной версии идеи, лежащей в основе «стандартного подхода», в соответствии с которой надежда произрастает из неопределенности веры наряду с представлением предмета как желаемого.
В конечном итоге надежда рассматривалась большинством философов данного периода (за исключением Спинозы) как нейтральный фактор, мотивирующий человеческую агентность, поскольку она может вести как к рациональным, так и иррациональным действиям.
Согласно Рене Декарту, надежда представляет собой более слабую разновидность уверенности (Декарт 1989: 554) и состоит из желания (то есть репрезентации исхода, который был бы и благим для нас, и возможным) и склонности мыслить его исполнение как вероятное, но не достоверное (Декарт 1989: 507 и далее, 554).
А значит, надежда и тревога всегда сопровождают друг друга (в отличие от отчаяния и уверенности, которые абсолютно противоположны). Надежда также лежит в основе более сложных страстей мужества и смелости (Декарт 1989: 556).
В то время как надежда на одобрение других может вести нас к добродетели и потому достойна похвалы (Декарт 1989: 568), она, как и все страсти, является производной от движений «духов» и потому не до конца контролируется душой (Декарт 1989: 502), что означает, что надежда может противоречить благу союза души и тела.
Схожий анализ предлагает Томас Гоббс. Для него надежда — это сложная страсть или «умственное удовольствие», то есть удовольствие, которое проистекает не из непосредственного ощущения, но из мышления.
Для Гоббса простейшей единицей строения надежды является желание (appetite), и «желание, соединенное с мнением, что желаемое будет достигнуто, называется надеждой». Как и у Декарта, надежда служит элементом более сложных ментальных явлений, таких как смелость или вера («Левиафан», I.VI; Гоббс 1991: 41). Надежда — для Гоббса она более-менее совпадает с (оправданным) ожиданием — играет важную роль в политическом приложении его моральной психологии. Не только равенство людей в естественном состоянии определяется как равенство надежд («Левиафан», I.XIII; Гоббс 1991: 94) — исходя из которого для всех было бы рационально преследовать собственную выгоду — законы природы также велят человеку «добиваться мира, если у него есть надежда достигнуть его» («Левиафан», I.XIV; Гоббс 1991: 99).
Проблема коллективной агентности в естественном состоянии и ее решение, таким образом, зависят от того, каких надежд индивиды могут рационально придерживаться.
Бенедикт Спиноза определяет страсть надежды как разновидность удовольствия («Этика», IIIт18сх2; Спиноза 1999а: 349–350) или радости, смешанной с печалью (из-за неопределенности исхода, см. «Краткий трактат», кн. II, гл. IX; Спиноза 1999а: 55).
В отличие от более современных определений, удовольствие, являющееся частью надежды, отличается здесь от желания. Надежда (в «Этике»), таким образом, необязательно связана с желанием; скорее, она является тем способом, с помощью которого сознание аффицируется идеей будущего события.
В отличие от Гоббса и Декарта, Спиноза рассматривает надежду как иррациональную в своей основе установку. Он утверждает, что она проистекает из неправильного мнения, поскольку не отражает в представлении, что всё управляется необходимостью («Краткий трактат», кн. 2, гл. IX; Спиноза 1999а: 55). Вдобавок в «Этике» Спиноза описывает надежду как одну из причин суеверия, в особенности потому, что она всегда сопровождается страхом («Этика», IIIт50; Спиноза 1999а: 369–370). Из-за такого страха она с необходимостью не может быть внутренне благой («Этика», IVт47; Спиноза 1999а: 427). Вот почему мы должны стремиться не полагаться на надежду.
Однако Спиноза соглашается с Гоббсом, также приписывая надежде политическое значение. Как он объясняет в «Богословско-политическом трактате», то обстоятельство, что люди ведо́мы надеждой и страхом, делает их легкой мишенью для суеверия и ложных мнений («Богословско-политический трактат», Спиноза 1999б: 8–9); тем не менее хорошие законы должны это учитывать и мотивировать людей,
Точно такое же значение, как и надежде, Спиноза придает своему аргументу об общественном договоре. Как и Гоббс, он утверждает, что единственная причина, по которой люди остаются верны общественному договору или исполняют приказы суверена, заключается в их надежде достичь таким образом некоторого блага («Богословско-политический трактат», Спиноза 1999б: 179). Даже если народ в целом всегда объединен общими надеждами и страхами, в случае свободных народов преобладает именно надежда («Политический трактат», Спиноза 1999б: 271). Ввиду этого обстоятельства Спиноза в «Политическом трактате» объявляет надежду и страх основанием политической власти (там же: 255).
Анализ Дэвида Юма — еще один образец истолкования надежды как страсти, однако он отличается специфическим подходом к человеческой психологии. По мнению Юма, надежда представляет собой «прямой аффект» (direct passion), производимый в то время, когда ум размышляет о событиях, вероятность которых варьирует между абсолютной определенностью и полной невозможностью. Убеждения по поводу вероятности описываются им как следствие того, что разум быстро сменяет противоположные взгляды — относительно события или объекта как существующего либо несуществующего.
Каждый из этих взглядов приводит либо к радости, либо к горю (когда объект является либо чем-то хорошим, либо плохим), которые задерживаются в сознании дольше, чем первоначальное воображение существования или несуществования объекта. Рассматривая объекты возможные, но не достоверные, ум аффицируется смесью радости и горя, которая, в зависимости от преобладающего элемента, называется надеждой или страхом.
Поскольку Юм понимает надежду как неизбежное следствие рассмотрения неопределенного события, отсюда следует, что мы не можем не надеяться на какой бы то ни было позитивный исход в отношении того, в чем мы сомневаемся. Неопределенность может опираться на действительную неопределенность события, но также и на неопределенность верования или убеждения.
Иммануил Кант
В XVII и XVIII веках надежда главным образом рассматривалась как психологическая черта отдельных людей. В качестве некогнитивной установки, она определяется как сущностно не рациональная и не иррациональная Иммануилом Кантом, который придает ей гораздо большее значение.
Он предлагает гораздо более содержательный (и сложный) взгляд на связь между надеждой и разумом, который оставляет место не только для разумной надежды, но даже для надежды как чего-то, что может быть рационально необходимо в определенных ситуациях.
Кантовское определение надежды как «неожиданной возможности неизмеримого счастья» (AE 7:255) в «Антропологии с прагматической точки зрения», на первый взгляд, не выходит за пределы традиционных рассуждений о надежде. Тем не менее впоследствии Кант ставит надежду в центр своей философской системы, сосредотачиваясь на надежде как установке, позволяющей человеческому разуму задаваться вопросами, на которые неспособен ответить опыт.
В «Критике чистого разума» Кант утверждает вопрос «На что я смею надеяться?» в качестве одного из основоположных вопросов философии наряду с «Что я могу знать?» и «Что я должен делать?» (A805/B833). Этот вопрос, поскольку ответ на него зависит от положений относительно следствий моральной праведности и существования Бога, является «одновременно практическим и теоретическим» (A805/B833), и ответ на него дает религия (AE 9:25). Кантовское прочтение надежды, следовательно, служит мостом между его моральной философией и воззрениями на религию. Он подчеркивает рациональный потенциал такой надежды, но также дает понять, что рациональная надежда тесно связана с религиозной верой, то есть верой в бога.
В своих работах Кант выделяет три основных предмета надежды:
- (1) собственное счастье (как часть высшего блага);
- (2) собственное моральное совершенствование (в «Религии в пределах разума»);
- (3) наконец, нравственное совершенствование человеческого вида в целом.
(1) В «Каноне чистого разума» из первой «Критики» Кант четко заявляет: «всякая надежда имеет в виду блаженство» (A805/B833). И все же на кону стоит не просто надежда на собственное счастье, но надежда на блаженство, которое человек заслуживает в силу своего морального поведения (A809/B837).
По Канту, существует необходимая связь между нравственным законом и надеждой на счастье. Тем не менее эта связь существует лишь «в идее чистого разума», а не в природе (A809/B837).
Соразмерность счастья и нравственности может быть помыслена как необходимая лишь в интеллигибельном моральном мире, где мы отвлекаемся от всего того, что мешает моральному поведению. В эмпирическом мире опыта нет гарантий наличия необходимой связи между моральным поведением и счастьем.
Так, заключает Кант, мы можем разумно надеяться на счастье, соразмерное с моральностью, лишь если введем дополнительное неэмпирическое допущение, согласно которому «высший разум, повелевающий согласно моральным законам, будет положен… как причина природы» (A810/B838).
Таким образом Кант соединяет нравственность и счастье в предмете надежды и основывает его возможность в высшем разуме, то есть в боге. Кант называет «блаженство в полной соразмерности с нравственностью разумных существ, благодаря которой они становятся достойными его», высшим благом (A814/B842).
Особенность кантовского подхода к надежде в «Каноне» заключается в том, что надежда на высшее благо, судя по всему, кажется ему необходимой для моральной мотивации (A813/B841) — этот тезис он отвергнет в более поздних своих сочинениях.
В рамках кантонвского понимания надежды на счастье надежда оказывается тесно связанной с его понятием веры. Это становится очевидным в «Критике практического разума».
Сам Кант прибегает и к понятию убеждения или веры, и к понятию надежды с тем, чтобы объяснить содержание постулата бессмертия: мы должны предполагать бессмертие с тем, чтобы постичь высшее благо как «практически возможное», и поэтому мы обретаем «надежду на дальнейшее беспрерывное продолжение этого [морального] прогресса, сколько бы ни длилось существование сотворенного существа, даже после этой жизни» (AE 5:123).
Слова Канта можно истолковать в следующем ключе: он выступает за традиционную религиозную разновидность надежды — надежды на жизнь после смерти или бессмертие души. Тем не менее он отмечает, что бессмертие не представляет собой «всего лишь» надежду (надежду на исход, о возможности которого у нас не имеется сведений); разум с необходимостью (вследствие категорического императива) допускает, что бессмертие возможно.
Данный тезис о необходимом рациональном допущении чего-либо представляется более сильным, чем тезис о том, что мы можем (или даже должны) надеяться на него.
В то время как некоторые интерпретаторы Канта не разделяют четко надежду и веру (Rossi 1982, Flikschuh 2010), Эндрю Чигнелл подчеркивает, что надежда отлична от веры или убеждения, и что Кант придерживается политики «утверждать сильнейшее»: он утверждает сильнейшую обоснованную установку к p (обоснованное убеждение), даже если у нас также имеются более слабые установки по отношению к p (надежда) (Chignell 2013: 198).
О’Нил истолковывает Канта следующим образом: надежда предоставляет основание для религиозных верований — вера в Бога и бессмертие не «просто возможна», а играет важную роль в «обнадеживающем взгляде на человеческую судьбу» (O’Neill 1996: 281). Согласно О’Нилу, основание для веры состоит в надежде на то, что моральное действие окажется успешным, то есть что наша моральная интенция может вмешаться в естественный порядок.
Другая возможная интерпретация заключается в том, что Кант употребляет слово «надежда» для описания определенного рода верования. Такое верование отсылало бы к объекту, который теоретически возможен, но относительно которого нельзя решить, существует ли он и необходимо ли практически допускать его существование.
Он утверждает, что могут существовать практические (моральные) основания — что высшее благо должно быть достижимо, — которые делают надежду (на существование бога и бессмертия) не только ценной и рациональной, но даже рационально необходимой.
(2) В «Религии в пределах только разума» моральное совершенствование человека предстает в качестве предмета надежды. Кант допускает, что люди имеют склонность ко злу, то есть они то и дело ставят максимы себялюбия выше моральных максим (AE 6:32).
Таким образом, наша задача как моральных агентов заключается в том, чтобы произвести «революцию в образе мыслей», приняв моральный закон как свою основополагающую максиму. Эта революция становится предметом надежды:
Согласно Канту, эта надежда может включать надежду на Божью помощь в осуществлении этой революции (AE 6:171). Но если мы предположим, что Кант имел в виду, что мы требуем от Бога помощи, чтобы стать морально благими (Chignell 2013: 212ff.), то мы вступаем в противоречие с его основополагающим допущением, в соответствии с которым люди свободы и полностью ответственны за свои благие и дурные поступки. Чигнелл в данной связи заявляет, что Кант вполне мог
(3) В своих политических и исторических сочинениях Кант рассматривает другой предмет разумной надежды: надежду на историческое развитие в сторону нравственно лучшего, мирного будущего. Мы обнаруживаем схожую взаимосвязь между рациональным верованием и надеждой, как в случае Бога и бессмертия: Кант рассматривает моральное совершенствование человеческого рода и как предмет допущения или рациональной веры, которые связаны с нравственным долгом, и как предмет надежды (AE 8:309).
Будучи схожим с предметами практических постулатов, Богом и бессмертием, допущение морального совершенствования человеческого рода не может быть доказано.
Тем не менее рационально верить или надеяться на него, поскольку оно является необходимой предпосылкой морального долга (долга помогать в моральном совершенствовании юных поколений). Кант приписывает «надежде на лучшие времена» важную роль в моральной мотивации и заявляет, что без нее «желание содействовать общему благу никогда не согревало бы человеческое сердце» (AE 8:309).
Рассмотрение человеческой истории с «предвзятостью подтверждения» (Kleingeld 2012: 175), то есть с оглядкой на исполнение моральных требований, вдохновляет на борьбу со злом «вместо того, чтобы поддаться отчаянию» (ibid.).
Если отвлечься от системных вопросов, связанных с надеждой в философии Канта, будет полезно подытожить некоторые главные характеристики, которые он приписывает надежде. Что касается дескриптивного подхода к тому, что означает «человек надеется на p», из замечаний Канта можно вынести два необходимых условия, согласующихся со стандартным подходом: предмет надежды должен быть неопределенным, и человек должен его желать. Оба условия обнаруживаются в следующем отрывке из трактата «К вечному миру»:
Что касается нормативных условий рациональности надежды, в «О поговорке „Может, это и верно в теории, но не годится для практики“» Кант утверждает, что некоторая конкретная надежда (или намерение, сформированное на основе надежды) не иррациональна, если невозможность ее предмета нельзя доказать (AE 8:309ff).
Помимо этого негативного критерия Кант рассматривает главное положительно основание, в соответствии с которым определенные надежды (с необходимостью) связаны с моральным долгом. Таким образом, пускай даже третий вопрос философии звучит как «На что я смею надеяться?», во многих местах Кант обсуждает, на что мы должны надеяться (см. O’Neill 1996: 285).
Посткантианская философия и экзистенциализм
В посткантианской философии роль надежды была пересмотрена. Мы можем выделить два более или менее отдельных подхода. С одной стороны, такие авторы, как Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше и Альбер Камю отвергают надежду — не по причине ее эпистемической иррациональности, но как выражение неправильного отношения к миру, неспособного ответить на запросы человеческого существования.
С другой стороны, такие авторы, как Сёрен Кьеркегор и Габриэль Марсель, рассматривают надежду как средство преодоления ограничений обыденного опыта.
Кьеркегор анализирует надежду главным образом ввиду ее связи с религиозной верой. Однако в то время как Кант стремился показать, что вера в бога и надежда на высшее благо возможны в пределах одного только разума, Кьеркегор подчеркивает, что (вечная) надежда должна превосходить всякое понимание.
Будучи антиподом отчаяния, надежда в сочинениях Кьеркегора играет положительную роль. Мы видим это в следующем наставлении: «вся жизнь человека должна быть временем надежды!» (Kierkegaard [1847] 1995: 251).
В «Деяниях любви» Кьеркегор определяет надежду в самом общем ее виде как отношение к возможности добра:
Большинство интерпретаторов Кьеркегора подчеркивают различение между «небесной» (или вечной) и «земной» (временной) надеждой (Bernier 2015; Fremstedal 2012; McDonald 2014). В некоторых местах сам Кьеркегор, как кажется, допускает также существование «естественной надежды» (Kierkegaard [1851] 1990: 82) или надежды «на некоторую земную выгоду» (Kierkegaard [1847] 1995: 261). И все же, строго говоря, Кьеркегор считает это «неверным словоупотреблением» (Kierkegaard [1847] 1995: 261).
Он завершает свое определение следующим образом: «Выжидающе соотносить себя с возможностью добра значит надеяться, и выжидание не может быть временным, коль скоро надежда вечна» (Kierkegaard [1847] 1995: 249).
С точки зрения Кьеркегора, надежда — в строгом смысле слова — всегда направлена на вечное, «ведь надежда касается возможности добра, а следовательно, вечности» (Kierkegaard [1847] 1995: 249). Это следует из учения Кьеркегора о времени.
Надежда как форма ожидания представляет собой установку по отношению к возможному. В то время как ожидание в общем и целом соотносится с возможностью как добра, так и зла (Kierkegaard [1847] 1995: 249), надежда соотносится лишь с возможностью добра.
Возможность добра в учении Кьеркегора является чертой, свойственной вечности («во времени вечное есть возможное — будущее»).
Ожидание мирских благ зачастую разочаровывает — либо потому, что ждать приходится слишком долго, либо потому, что в итоге их так и не дожидаешься (Kierkegaard [1843–1844] 1990: 215) — тогда как вечная надежда в принципе не может испытать разочарование (Kierkegaard [1847] 1995: 261–263; Kierkegaard [1843–1844] 1990: 216). Вечно надеяться значит «в каждый момент всегда надеяться на все» (Kierkegaard [1847] 1995: 249). Кьеркегор по большей части приравнивает вечную надежду к христианской надежде (McDonald 2014: 164).
Одна разновидность надежды, которая стихийно возникает в юности, — дорефлексивная, своего рода непосредственное упование или уверенность (Fremstedal 2012: 52). За ней следует «поддерживающий расчет рассудка», то есть надежда, заключающая в себе рефлексию о желаемом исходе. Эта (земная) надежда часто терпит разочарование из-за слишком поздней реализацией или неосуществления.
Разочарование оказывается необходимым для обретения вечной надежды, которая «надеется против надежды, поскольку согласно той сугубо естественной надежде больше надежд быть не должно; следовательно, это надежда против надежды» (Kierkegaard [1851] 1990: 82).
Можно сказать, что в своем изложении истории Авраама в «Страхе и трепете» Кьеркегор приводит пример такой надежды (Lippitt 2015).
В то время как земная надежда оценивается рассудком исходя из ее возможности, вечная надежда превосходит ограничения рассудка. Таким образом, обычно ее называют иррациональной или даже «помешательством» (Kierkegaard [1851] 1990: 83).
Кьеркегор не обсуждает открыто вопрос о том, когда надежда оказывается рациональной — по всей видимости, поскольку вечная надежда превосходит разум, — однако он рассматривает вопрос о благой и дурной надежде с точки зрения «чести» и «позора» (Kierkegaard [1847] 1995: 260f.).
Он замечает, что человека, питающего земную надежду, которая так и не сбылась, зачастую ругают и называют нерассудительным (или «выставляют на позор» (Kierkegaard [1847] 1995: 260)), поскольку такой человек якобы показал, что он «просчитался». Кьеркегор отвергает такую перспективу «рассудительности», оценивающую надежду только по тому, сбылся желаемый в ней исход или нет. Скорее, мы должны обращать внимание на ценность желаемых исходов (Kierkegaard [1847] 1995: 261).
Вечная надежда в этой связи «не может быть выставлена на позор» (Kierkegaard [1847] 1995: 260, см. также 263). Кроме того, в соответствии с христианской традицией, Кьеркегор заявляет, что ценность надежды зависит от ее отношения к любви: мы надеемся для себя, если и только если ровно в той же мере мы надеемся для других.
Таким образом, надежда человека состоит в пропорциональном соотношении с этическим требованием, как и в учении Канта. Тем не менее Кьеркегор не считает, что надежда ограничивается нашим исполнением этого требования.
Как уже было упомянуто, противоположный подход к надежде в посткантианской философии представляет Шопенгауэр. И пусть даже он утверждает, что людям по природе свойственно надеяться, он также заявляет, что в целом нам стоило бы надеяться меньше, чем мы к тому склонны, и называет надежду «глупостью сердца» («Parerga и Paralipomena» II, 1851: § 313). Двусмысленные замечания на тему ценности надежды (в его истолковании ящик Пандоры содержал все блага, см. «Parerga и Paralipomena» II, 1851: § 200) обнаруживаются во всех его сочинениях, но в целом преобладает критический настрой.
В его критической оценке надежды выделяются два аспекта: влияние надежды на интеллект и ее значение для счастья. В шопенгауэровской дихотомии воли и интеллекта надежда представляет собой выражение воли или, если точнее, склонности.
Одна из причин, по которой надежда оказывается проблематичной в своем влиянии на интеллект, заключается в том, что она представляет нам желаемое как вероятное («Мир как воля и представление», т. 2 [1818], Шопенгауэр II: 178, 180). Шопенгауэр допускает, что надежда обостряет наше восприятие, коль скоро она делает отчетливыми некоторые свойства мира.
Однако он связывает этот тезис с более сильным, согласно которому надежда может (зачастую) сделать невозможным постижение важных вещей. Она оказывает на познание искажающее воздействие, поскольку не дает интеллекту постичь истину. Тем не менее Шопенгауэр также допускает возможность положительного влияния надежды, а именно в качестве мотивирующей и поддерживающей интеллект силы («Мир как воля и представление», т. 2 [1818], Шопенгауэр II: 182)
Что касается ее содействия личному счастью, Шопенгауэр в своем сравнении жизни животных и жизни людей отводит надежде положительную роль. Он замечает, что животные испытывают меньше удовольствия, нежели люди, именно потому, что им не хватает надежды, а вместе с ней и удовольствий предвосхищения.
Но надежда не только ведет к разочарованию, когда она не сбывается, она даже может разочаровать, когда она сбывается, если исход не приносит ожидаемого удовлетворения («Мир как воля и представление», т. 2 [1818], Шопенгауэр II: 480). Шопенгауэр также критикует кантовскую идею о том, что мы можем надеяться на соразмерность нашего счастья нашему моральному поведению (высшее благо). Из-за этой концепции надежды, по мнению Шопенгауэра, Кант подспудно остается приверженным некоторой разновидности эвдемонизма («Об основе морали» II, §3, 34).
Таким образом, хотя Шопенгауэр порой и говорит о положительных чертах надежды, в целом он оценивает ее отрицательно. Подобная оценка согласуется с его воззрением, согласно которому жизнь исполнена неизбежными разочарованием и страданием, а страдание можно уменьшить, лишь избавившись от своих желаний.
В пределе это сводится к «отрицанию воли к жизни» («Мир как воля и представление», т. 1 [1818], Шопенгауэр I: 334). «Манящая надежда» («Мир как воля и представление», т. 1 [1818], Шопенгауэр I: 333) оказывается препятствием на пути к отрицанию воли и требует «действительно благих и чистых помыслов» («Мир как воля и представление», т. 1 [1818], Шопенгауэр I: 334).
Любопытно отметить, что Шопенгауэр питает симпатию к идее спасения, заключающегося в отрицании воли («Мир как воля и представление», т. 2 [1818], Шопенгауэр II: 513), то есть он сам в некотором роде придерживается трансцендентной надежды на окончание всех страданий (Schulz 2002: 125).
Пускай даже он не выражается таким образом, его воззрение можно было бы в целом описать как «надежда на скончание надежды».
Быть может, наиболее известным критиком надежды в посткантианской традиции был Фридрих Ницше. В третьем предисловии к «Так говорил Заратустра» он предупреждает: «не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах!» (ТГЗ [1883–1885], Ницше IV: 14). Схожим образом в «По ту сторону добра и зла» (1886) Ницше отвергает все надежды и всякую веру «в скрытую гармонию, в будущие блаженства и справедливость» (ПДЗ [1886], Ницше V: 67). В его истолковании мифа о Пандоре надежда представляет собой «на деле худшее из зол, ведь продлевает она муку людскую» (ЧСЧ [1878] § 71, Ницше II: 74).
Тем не менее при пристальном прочтении оказывается, что наряду с критикой религиозных и метафизических надежд Ницше также указывает на положительный смысл надежды: «Пусть будет человек избавлен от мести, — это для меня мост к высшей надежде и радуга после долгих гроз» (ТГЗ [1883–1885], Ницше IV: 103). Ницше считает надежду одним из «сильных аффектов» (ГМ [1887], Ницше V: 356) вместе с гневом, страхом, сладострастием и местью. Более того, он постоянно прибегает к метафоре радуги: «Надежда — это радуга над падающим вниз ручейком жизни» [“Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden jähen Bach des Lebens”] (цит. по Bidmon 2016: 188). Но и метафора радуги также двусмысленна.
С одной стороны, она связана с ницшевским видением «сверхчеловека»: «Разве вы не видите радугу и мосты к сверхчеловеку?» (ТГЗ [1883–1885], Ницше IV: 52). С другой стороны, однако, радуга призрачна, она вечно ускользает от нас — Ницше называет ее «призрачным мостом» (ТГЗ [1883–1885], Ницше IV: 221). В «По ту сторону добра и зла» он наконец заявляет, что нам следует «возложить свои надежды» на «новых философов», то есть «на людей, обладающих достаточно сильным и самобытным умом для того, чтобы положить начало противоположной оценке вещей» (ПДЗ [1886], Ницше V: 118). В «Человеческом, слишком человеческом» он также представляет изменение общественного порядка как предмет надежды:
Здравая надежда, следовательно, основывается на вере в собственную способность ее исполнить. Тем не менее Ницше добавляет, что обычно такая надежда оказывается «самонадеянностью, завышенной самооценкой» (там же).
Камю следует за Ницше, когда объявляет (религиозную) надежду худшим из всех зол (Judaken and Bernasconi 2012: 264). Его критика надежды связана с идеей о том, что человеческое существование представляет собой «абсурд». «Неуловимое чувство абсурдности» (Камю 1990: 29) характеризуется несоответствиями и расхождениями: разум человека задает фундаментальные вопросы о смысле жизни, но «мир» не предоставляет ему ответов. Понимание абсурда Камю лучше всего схватывается в образе Сизифа, который воплощает абсурдность жизни, выполняя свой «бесполезный и безнадежный труд» (Камю 1990: 90).
Допущение абсурдности жизни сопровождается отвержением религиозной надежды на спасение. В своем раннем сочинении «Бракосочетание» ([1930], Camus 1970) Камю выступает против религиозных идей бессмертия души и надежды на жизнь после смерти.
На самом деле «надежда — это ошибка, которую Камю желает избежать» (Aronson 2012). Пускай даже Камю зачастую называют «экзистенциалистом», он отделял себя от этого направления. Одной из причин послужило его несогласие с тем, как рассматривалась надежда у экзистенциалистов, в частности у Кьеркегора. Камю говорит, что «они обожествляют то, что их сокрушает, находя основание для надежд в том, что лишает всякой надежды. Эта принудительная надежда имеет для них религиозный смысл» (Камю 1990: 40).
Как уже упоминалось, одна из разновидностей надежды, которую Камю решительно отвергает, — это религиозная надежда на жизнь после смерти. Вторая разновидность надежды, разбираемая прежде всего в «Бунтующем человеке», — это надежда, опирающаяся на великое основание помимо себя, то есть «надежда на жизнь иную, которую следует „заслужить“» (Камю 1990: 27).
Трудность с надеждой на социальные утопии состоит в том, что они склонны оборачиваться диктатурами. Еще одна причина отвергнуть такие надежды заключается, судя по всему, в том, что они отрывают нас от жизни чувств, от здесь-и-сейчас и от наслаждения красотой этой жизни.
Мы не должны надеяться приспособиться к трудностям жизни и смерти: вместо надежды на жизнь после смерти (или совершения самоубийства) нам следовало бы осознать, что смерть есть «наиболее очевидная абсурдность» (Камю 1990: 55), и «речь идет о смерти без отречения, а не о добровольном уходе из жизни» (Камю 1990: 54). Сизиф воплощает в себе ясность и осознанность — рекомендуемые Камю установки.
Хотя Камю и критикует надежду, он заявляет, что жить без надежды (практически) невозможно, даже если человек желает от нее освободиться. Вероятно, это дескриптивный тезис, утверждающий факт о человеческой психологии. И все же в письме своему другу, поэту Рене Шару, Камю называет «Бунтующего человека» “livre d’espoir” [книгой надежды] (Schlette 1995: 130).
В данной связи недавно было выдвинуто предположение, что Камю оставляет место для положительной надежды — своего рода “étrange espoir” [странной надежды], направленной на возможности, присущие настоящему моменту (Schlette 1995: 134), и характеризуемой гуманизмом и солидарностью со всеми представителями человечества (Bidmon 2016: 233).
В то время как у Камю положительный смысл надежды глубоко сокрыт, в сочинениях Габриэля Марселя он лежит на поверхности. В основе марселевского подхода к надежде лежит разделение между «„Я надеюсь…“, абсолютным заявлением, и „Я надеюсь, что…“» (Marcel [1952] 2010: 26). Марсель заинтересован главным образом в общей, абсолютной надежде, которую он понимает как «действие, посредством которого… соблазн впасть в отчаяние активно или победоносно преодолевается» (Marcel [1952] 2010: 30ff).
Марсель описывает «тайну» (Marcel [1952] 2010: 29) надежды, отсылая к связи между надеждой и терпением (Marcel [1952] 2010: 33). Надежда подразумевает уважение к «личному ритму» (ibid.) и «уверенность в определенном процессе роста и развития» (Marcel [1952] 2010: 34). Марсель поднимает проблему рациональности надежды, когда задается вопросом: является ли надежда иллюзией, состоящей в принятии желаемого за действительное (Marcel [1952] 2010: 39).
Он отвечает, что такое возражение против ценности надежды применимо преимущественно к тем надеждам, которые направлены на определенный исход («надеяться, что Х»), однако неприменимо к надежде, превосходящей или трансцендирующей воображение.
Поскольку человек, который просто (т.е. абсолютно) надеется, не ожидает конкретного события, его надежду нельзя судить по тому, может ли она сбыться. Марсель иллюстрирует это на примере человека с инвалидностью (Marcel [1952] 2010: 40). Если человек надеется, что в определенный момент времени окажется здоровым, его может постичь разочарование и отчаяние, если этого не произойдет.
Тем не менее абсолютная надежда, как объясняет Марсель, предполагает «метод преодоления»: пациент истинно надеется, если осознает, что «не обязательно все потеряно, если лечения не существует» (Marcel [1952] 2010: 40). Будучи «теистическим экзистенциалистом» наподобие Кьеркегора (Treanor and Sweetman 2016), Марсель в конечном итоге связывает эту возможность абсолютной надежды с существованием Бога. Абсолютная надежда по необходимости связана с верой в Бога и является «ответом твари бесконечному Бытию, которому, как она знает, она обязана всем, что имеет» (Marcel [1952] 2010: 41).
Прагматизм
Хотя надежда редко затрагивается в традиции философского прагматизма, по крайней мере открыто, высказывалось предположение, что в трудах Уильяма Джеймса и Джона Дьюи можно обнаружить учения о надежде (Fishman and McCarthy 2007; Green 2008; Koopman 2006, 2009; Rorty 1999; Shade 2001).
Как замечает Патрик Шейд, вопрос надежды «тайно присутствует в большинстве прагматических философий», поскольку он связан с главнейшими прагматистскими темами, такими как мелиоризм (улучшение мира) и вера, и частными надеждами на социальный прогресс (Shade 2001: 9ff).
В самом деле, понятие веры в «Воле к вере» Джеймса тесно связано с надеждой. В этом сочинении Джеймс стремится предоставить «очерк оправдания веры, защиты нашего права занимать определенную позицию в религиозных вопросах» (Джеймс 1997: 9). Хотя главным его предметом является религиозная вера, Джеймс отмечает, что схожее по структуре оправдание веры или доверия можно было бы применить к социальным вопросам.
Может быть рационально верить в то, что другому допустимо доверять или что мы ему нравимся, пускай даже мы и неспособны это доказать.
Для того, чтобы вера была рациональной, требуется соблюдение трех критериев: вопрос нельзя решить научным путем, верование может быть истинным и нам будет лучше (в том числе в настоящий момент), если мы поверим. В своем рассуждении Джеймс обращается к надежде, когда заявляет, что скептицизм или агностицизм не более рациональны, чем вера. Скептик заявляет, что «поддаться боязни, что религиозная гипотеза — заблуждение, разумнее, чем поддаться надежде на то, что она может быть истинной» (Джеймс 1997: 24).
Джеймс подвергает подобную установку критике: «что же доказывает нам, что заблуждение, вызванное надеждой, гораздо хуже заблуждения, вызванного страхом?» (Джеймс 1997: 24).
В сочинениях Дьюи тема надежды связана с его обсуждением мелиоризма (Shade 2001: 139).
Мелиоризм —
Дьюи отличает мелиоризм от оптимизма: мелиоризм
Предмет надежды или мелиоризма, по Дьюи, это прежде всего и главным образом демократия, которая состоит в «простой идее, что политический и этический прогресс опирается не на что иное, как на людей, их ценности и их действия» (Dewey [1916] 1980: 107).
Стандартный подход и рациональность надежды
Современные дискуссии вокруг надежды в аналитической философии сосредотачиваются прежде всего на определении надежды, экспликации стандартов рациональности и объяснении ценности надежды.
В качестве опорной точки в этих дебатах принимается то, что было названо «ортодоксальным определением» (Martin 2013: 11) или «стандартным подходом» (Meirav 2009: 217), в рамках которого надежда раскладывается на желание некоего исхода и убеждение по поводу его возможности. Данную позицию представляет Р. С. Дауни:
В схожем ключе Дж. П. Дэй пишет:
Условие желания отражает то обстоятельство, что субъект так или иначе желает некоего исхода. Что касается условия убеждения, то в целом авторы соглашаются насчет следующего: нельзя надеяться на то, что, по нашему убеждению, является невозможным или же абсолютно достоверным.
Для дескриптивного подхода к надежде имеет значение лишь убеждение надеющегося человека относительно возможности предмета, независимо от его истинности или ложности: человек может надеяться на предмет, который он полагает возможным, даже если в действительности он невозможен.
В то время как большинство подходов содержат идею о том, что надеющийся человек придерживается положительного убеждения относительно возможности определенного исхода, наиболее скромная позиция требует лишь отсутствия убеждения в том, что исход невозможен (или абсолютно достоверен) (см. Pettit 2004: 153, где излагаются обе формулировки).
Большинство авторов неявно допускают, что событие, составляющее предмет надежды, располагается в будущем. В обыденной речи, однако, люди зачастую выражают надежды относительно прошлых событий, о которых им недостает сведений. Например, можно надеяться, что некий человек, умирая, не испытывал чрезмерных страданий.
В то время как некоторые авторы полагают, что такое словоупотребление лишь паразитирует на случае, направленном на будущие события (McGeer 2004: 104), ряд других авторов утверждает, что перед нами подлинный образчик надежды (Martin 2013: 68).
Другой вопрос в этом контексте затрагивает понятие возможности: кажется очевидным, что нельзя надеяться на логически невозможный исход, но можем ли мы надеяться на физически невозможное, например, что завтра восстанут мертвецы?
Так, Дауни полагает, что логической возможности недостаточно (Downie 1963: 249), тогда как Чигнелл не исключает возможность надежды на нечто физически невозможное (Chignell 2013: 201ff).
Какой бы ни был дан ответ на этот вопрос, все подходы (за исключением Wheatley 1958) допускают случаи надежды, где определенный исход является крайне невероятным; иными словами, в случае надежды не требуется нижней границы для возможности (Meirav 2009: 219).
Сходным образом ряд авторов выразил сомнение в том, что две составляющие, на которые указывает ортодоксальное определение, являются необходимыми условиями надежды (хотя Segal and Textor 2015 это отрицают). Тем не менее представление о том, что стандартный подход предоставляет достаточные условия надежды, было подвергнуто весомой критике.
Наиболее значительные контраргументы принадлежат Ариэлю Мейраву (Meirav 2009) и Филипу Петтиту (Pettit 2004).
Мейрав утверждает, что стандартному подходу не удается отделить надежду от отчаяния: два человека могут иметь одни и те же желания и убеждения по поводу возможности исхода, и тем не менее один из них может надеяться на определенный исход, а другой — приходить от него в отчаяние.
Согласно «внешнефакторному объяснению» Мейрава (Meirav 2009: 230), надежда также заключает в себе установку по отношению к внешнему фактору (например, природе, судьбе, Богу), от которого каузально зависит реализация желаемого исхода.
Мейрав связывает это определение с тезисом о рациональности надежды: рациональность надежды зависит от рациональности убежденности в благой природе внешнего фактора (Meirav 2009: 233).
Другая проблема состоит в том, что стандартному подходу не удается объяснить, каким образом надежда может обладать мотивирующей силой в трудных обстоятельствах, в особенности когда вероятность желаемого исхода весьма мала (Pettit 2004; Calhoun forthcoming). Это возражение опирается на идею, что надежда тесно связана с нашей агентностью.
Виктория Макгир заявляет, что даже в случаях, когда мы никак не можем поспособствовать достижению желаемого исхода, надежда представляет собой «способ позитивного и расширительного использования своей агентности» и наша «энергия… направлена на будущее» (McGeer 2004: 104). Чтобы продемонстрировать мотивирующую силу надежды, Петтит различает «поверхностную» разновидность надежды, описываемую в ортодоксальном определении, и более «содержательную» надежду (Pettit 2004: 154).
В его представлении содержательная надежда опирается на верование, которого агент в действительности не придерживается:
И все же такое определение, судя по всему, делает надежду сущностно иррациональной установкой, поскольку она требует от человека вести себя так, как если бы у него было ложное убеждение.
Чешир Калхун утверждает, что «в надежде мы живем ввиду некой „как-если-бы“ идеи будущего». Тогда как Петтит предполагает, что это «как-если-бы» подразумевает хорошие шансы на желаемый исход, а Мартин — что оно подразумевает простую возможность, по мнению Калхун, надежда включает в себя видение будущего из перспективы успеха. Третья составляющая надежды помимо желания и верования, по ее словам, состоит в «феноменологической идее определенного будущего, чье содержание включает в себя успех».
Подобная идея имеет мотивирующий эффект независимо от желаний агента. Данная составляющая не является всецело рациональной, поскольку у нее имеются нерациональные источники, такие как привыкание к успеху или неудаче.
В недавней работе Эдриенн Мартин стремится исправить недостатки стандартного определения, однако радикально иным образом, и дает свое объяснение рациональности надежды. Вслед за Уокер (Walker 2006: 48) Мартин утверждает, что надежду не следует рассматривать из перспективы необходимых и достаточных условий.
Скорее, перед нами «синдром», у которого есть свои отличительные черты (Martin 2013: 62). Эти черты включают два элемента помимо верования и желания, или влечения.
Во-первых, агент должен рассматривать свое убеждение относительно возможности некоторого исхода в качестве разрешения на опирающиеся на надежду действия, то есть не как предписание действовать тем или иным образом.
Во-вторых, агент должен рассматривать свое желание некоего исхода в качестве практического основания для совершения подобных действий. Мартин называет свой подход тезисом включения (incorporation thesis): он указывает на тот факт, что надеющийся включает элемент желания в свою рациональную схему целей. С точки зрения Мартин, рациональность надежды есть прежде всего практический вопрос.
В то время как влечение к тому или иному исходу (по ее мнению) и вовсе не подчиняется рациональным нормам, вера в возможность исхода учитывает теоретические основания, относящиеся к возможности исхода. Однако то, принимает ли человек свою убежденность в возможность определенного исхода в качестве разрешения на исходящие из надежды действия и, следовательно, принимает ли он свое желание в качестве практического основания для совершения таких действия, определяется нормами рационального преследования целей (Martin 2013: 51).
В этом отношении ее подход оказывается схожим с позицией Петтита, который подчеркивает инструментальную ценность надежды для достижения наших целей (Pettit 2004: 161).
Еще одно ценностное измерение вводится в теории Люка Бовенса (Bovens 1999). Он утверждает, что в случаях, когда надежда не имеет инструментальной ценности (поскольку достижение желаемого состояния от нас никак не зависит), она по-прежнему обладает внутренней ценностью.
По мнению Бовенса, это так потому, что надежда включает в себя ментальные образы. Данная характеристика надежды ответственна за ее внутреннюю ценность в трех отношениях.
Во-первых, надежда имеет внутреннюю ценность, поскольку ментальные образы сами по себе нам приятны (Bovens 1999: 675ff).
Во-вторых, надежда имеет эпистемическую ценность, поскольку она позволяет нам лучше понимать самих себя.
В-третьих, она обладает внутренней ценностью, поскольку благодаря ей у нас складывается любовь к другим и себе, а это внутренне ценные практики. Именно благодаря ментальным образам надежда тесно связана с любовью, поскольку расход ментальной энергии на мысли по поводу благополучия другого человека лежит в основе любви к этому человеку.
Другой подход к ценности надежды был разработан в рамках эпистемологии добродетелей. Нэнси Шоу (Show 2013) выделяет три аспекта, помогающих понять, почему надежда может быть понята как как интеллектуальная добродетель:
(1) надежда мотивирует достижение эпистемических целей, таких как получение знания;
(2) благодаря надежде эпистемический агент получает такие качества, как стойкость, терпение, гибкость и открытость, которые также помогают нам в достижении этих целей;
(3) надежда функционирует в качестве своего рода метода построения интеллектуальных проектов. (Критическую оценку подхода Сноу см. в Cobb 2015.)
Также следует отметить, что стандартный подход не исчерпывает все значения понятия «надежды», которые приписывались ему в философской традиции, в частности потому, что стандартный подход не допускает неопределенных надежд. К примеру, марселевское различение между «надеяться, что…» и надеждой без определенного предмета в последнее время часто используется (со ссылкой на Марселя или без нее) в различных подходах.
Джозеф Годфри называет беспредметную надежду «фундаментальной надеждой» и опирается на анализ надежды в сочинениях Блоха, Канта и Марселя (Godfrey 1987). В прагматистской теории Патрика Шейда выделяются частные надежды, с одной стороны, и склонность к надежде в целом как «открытость по отношению к возможностям, которые являются для нас осмысленными и многообещающи» (Shade 2001: 139).
Джонатан Лир в схожем ключе описывает «радикальную надежду» как чувство будущего, в котором «возникнет нечто хорошее» (Lear 2008: 94), пускай даже все частные надежды не сбудутся, а Мэттью Рэтклифф приводит такую радикальную надежду как пример «доинтенциональной надежды», которая представляет собой
Анализы надежды в психологической литературе
Надежда была предметом систематического исследования психологов и психоаналитиков начиная с 1950-х годов (Frank 1968). Во многих ранних исследованиях она рассматривалась как сочетание восприятия некоторого исхода как важного для агента и имеющего некоторую вероятность (Stotland 1969). В то время как это понимание надежды не совпадает со стандартным философским подходом (см. раздел 3), поскольку требует минимальной вероятности, оно продолжает играть основополагающую роль в нынешней психологической литературе.
Весьма влиятельный психологический подход к надежде представлен в теории надежды Чарльза Снайдера (обзор см. в Rand and Cheavens 2009).
Снайдер определяет надежду следующим образом:
На этом основании Снайдер и соавторы разработали «шкалу надежды», которая измеряет несколько компонентов восприятия агентности и путей достижения целей (ibid.).
Здесь можно было бы выдвинуть несколько возражений.
Во-первых, «восприятие агентности» относится и к прошлому, и к будущему, а следовательно, измеряет общую склонность надеяться, а не надежду на конкретные исходы. В ответ психологи разработали множество шкал надежды, относящихся к различным предметным областям (“domain-specific”) (Lopez et al. 2000: 61).
Во-вторых, возникает вопрос, достаточно ли снайдеровское определение надежды отличает ее от оптимизма (см. Miceli and Castelfranchi 2010; Aspinwall and Leaf 2002). В попытке отличить надежду от оптимизма Снайдер связывает ее с убеждениями по поводу уверенности в себе (Snyder 2002; Magaletta and Oliver 1999).
Он закрепляет термин «оптимизм» лишь за обобщенными ожиданиями позитивных исходов. Тем не менее обыденное словоупотребление гораздо лучше схватывается идеей, что можно надеяться, даже если не приписываешь исходу высокую вероятность.
Надежда в политической философии
Политическое значение надежды как психологического состояния признавалось и домодерными, и нововременными философами.
Религиозная надежда на жизнь после смерти была главной темой в средневековой политической философии. Однако с возникновением модерного мировоззрения, в рамках которого история оказывается контигентной, а будущее — пространством возможных фундаментальных перемен, смысл надежды претерпел изменения.
Хотя это наиболее отчетливо видно в кантовском анализе роли надежды в отношении к человеческой истории (см. раздел 2.4), схожее замечание высказывает Ханна Арендт в «Vita Activa».
По мнению Арендт, «натальность» людей делает их способными к новому началу, осуществляемому в действии, и тем самым предотвращает рассеивание публичного пространства и его превращение в рутинизированное поведение.
Таким образом, «натальность» служит предпосылкой подлинного политического действия и необходимым условием возможности надежды (Арендт 2000).
Способность надеяться и способность политически действовать, таким образом, сущностно переплетены.
В политической философии Нового времени надежда значима как для марксистской, так и для прагматистско-либеральной (см. раздел 2.6) традиции. Обе традиции породили мыслителей — Эрнста Блоха и Ричарда Рорти соответственно, — которые ставят надежду в центр своей политической философии.
В современной политической философии надежда не является основным предметом, однако некоторые мыслители предложили интересные попытки оценить ее значение для либеральных идеальной и неидеальной теорий (см. White 1991; Smith 2005b; Moellendorf 2010).
Эрнст Блох
«Принцип надежды» Блоха, разумеется, представляет собой не только самую радикальную попытку построить критическую политическую философию на весьма неортодоксальной теории надежды. Данный проект представляет собой решительный разрыв со стандартными анализами надежды, которые можно найти в философской традиции.
По утверждению Блоха, надежда включает в себя как аффективный компонент (будучи противоположностью страха), так и когнитивный (будучи противоположностью воспоминания), посредством которых она предвосхищает положение дел, не только еще не существующее, но и пока еще когнитивно не доступное субъекту в полной мере. Что касается аффективности, Блох описывает аффекты как подкласс влечений, которые составляют сырье его (вдохновленной психоанализом) психологии.
В отличие от базовых влечений, аффекты саморефлексивны в двух отношениях: когда агенты осознают свои аффекты, мотивирующая сила последних возрастает (Fink-Eitel 1988: 323); через осознание своих аффектов субъект также становится способным рефлексировать самого себя. Среди аффектов мы можем различать «наполненные» эмоции (предмет которых является нечто полностью доступное в жизненном мире агента) и «эмоции ожидания» (Erwartungsaffekte), соотносящиеся с тем, что еще недоступно, например, надежду и страх.
В этой схеме надежда представляет собой положительную эмоцию ожидания (Bloch [1954–59] 1986: I:111), и в отличие от негативных аффектов, которым мы подчиняемся непроизвольно, надежда есть нечто, в отношении чего мы имеем некоторую степень свободы.
Таким образом, по словам Блоха, будучи свободной, направленной на будущее разновидностью предвосхищения, надежда представляет собой наиболее человеческий из всех аффектов (Bloch [1954–59] 1986: I:74).
Что касается когнитивного компонента, то, согласно Блоху, надежда дает нам новые формы доступа к реальности, однако кратко это описать нельзя.
В целом, однако, можно сказать, что надежда всегда соотносится с «еще-не-осознанным», которое в свою очередь отражает «объективные возможности».
Термины «еще-не-осознанное» и «предсознание» (Bloch [1954–59] 1986: I:115) являются частью критического прочтения классического психоанализа, который, согласно Блоху, рассматривает бессознательное преимущественно как охватывающее мысли, более не являющиеся сознательными (то есть вытесненные) (ibid.), отвергая при этом возможность того, что некоторые бессознательные мысли еще не способны оказаться сознательными.
Это прочтение позволяет Блоху ввести антипод понятия вытеснения, который направлен на будущее (Bloch [1954–59] 1986: I:128). В то время как вытесненные воспоминания вытесняются внутренними силами субъекта, сопротивление еще-не-осознанной мысли обнаруживается в самом материале или содержании этой мысли, а именно в объективных будущих возможностях — событиях или исходах, которые по определению еще не достигнуты и не стали привычками, а потому недоступны субъекту в жизненном мире и не могут быть концептуализированы.
Это сопротивление сознательной рефлексии всегда также отчасти определяется социоэкономическими причинами; не все проекты равно достижимы во всех исторических моментах, а значит, их (нынешняя) невозможность не позволяет им стать полностью доступными сознанию (Bloch [1954–59] 1986: I:130).
Содержание или материал еще-не-осознанного определяется тем, что Блох называет «Фронтом».
Это понятие связано с процессуальной метафизикой Блоха, в рамках которой объективные тенденции и возможности в реальности взаимодействуют с «закрытыми» положениями дел таким образом, что момент потенциальности, переходящей в актуальность, всегда раскрывает возможности для вмешательства активного принятия решений.
Верная установка по отношению к таким «фронтальным» возможностям, согласно Блоху, — это «воинствующий оптимизм»: не просто допущение того, что события будут двигаться в желаемом направлении, но активное соотнесение с реальными тенденциями в целях их реализации (Bloch [1954–59] 1986: I:201).
Исходя из этих посылок Блох разворачивает целостную теорию, в которой надежда представляет собой не просто субъективное сочетание желаний и убеждений по поводу вероятностей или фактов, а скорее отражение метафизических возможностей, сокрытых в мире, составляющее часть человеческих способностей, которые делают возможным соотнесение с тем, чего еще нет, но что уже предвосхищается в объективных потенциалах реальности.
В «Принципе надежды» Блох приводит широкий обзор исторических и нынешних форм, в которых надежда, оптимизм и утопия могут быть схвачены и схватываются видениями потенциальных положений дел — перечень обсуждаемых тем включает в себя медиальную репрезентацию желаний, социальные и географические утопии, литературные и художественные способы схватывания возможного и философские теории блага.
Теоретический аппарат, в который встроены эти исследования и ради которого они осуществляются, представляет собой пересмотренную разновидность марксизма.
Марксизм Блоха опирается на диалектический материализм, имеющий два аспекта, которые Блох называет «холодным» и «теплым течением»: первый обозначает материалистическую мысль о том, что всякое историческое развитие обусловлено и ограничивается конкретными существующими материальными условиями, «строгими детерминациями, которые нельзя пропустить» (Bloch [1954–59] 1986: I:208), в то время как второй признает процессуальное устройство реальности, которое адекватно схватывается надеждой и ожиданием.
В этой версии марксизма надежда становится центральным элементом позиции социального теоретика и критика. В частности, в понимании Блоха марксово описание единства теории и практики в «Тезисах о Фейербахе» предполагает социальную теорию, которая заняла бы «горизонт будущего» (Bloch [1954–59] 1986: I:285), и материализм, который включал бы в себя надежду как основоположный фактор.
Такой материализм, как утверждает Блох на заключительных страницах «Принципа надежды», способен преодолеть оппозицию немощной фантазии и механистического детерминизма, лежащего в основе простых предсказаний будущего, и руководить политические действием, направленным к реальной, материальной, объективной возможности — бесклассового общества, — которая в то же самое время признается зависимой от человеческого решения (Bloch [1954–59] 1986: III:1372). Подобной деятельностью, по словам Блоха, должны руководить воинствующий оптимизм или надежда.
Политическая надежда, таким образом, не только ценна, но и необходима для достижения социальных перемен к лучшему.
Ричард Рорти
Хотя Рорти, как и Блох, признает, что именно надежда, а не знание об исторической неизбежности или моральной истине, является надлежащим основанием прогрессивной политической теории, его доводы в пользу этого заявления радикально отличаются от тезисов Блоха. Блох пытается оснастить свой дескриптивный анализ надежды и диалектический материализм, призванный направлять политическое действие, метафизическим словарем, цель которого состоит в определении конечной реальности, на которую направлена надежда. Рорти же, в свою очередь, приходит к признанию важной роли надежды в современной либеральной политике через отрицание политических моделей, которые основаны на идее (возможно, привилегированного) знания или интуиции (insight).
В «Философии и зеркале природы» Рорти определяет надежду как центральный элемент герменевтического, а не эпистемологического подхода к философии:
В своих поздних сочинениях Рорти также подчеркивает, что такая надежда не опирается на какие бы то ни было основания — такие как знание о вероятностях; скорее, она представляет собой установку, посредством которой говорящие выражают и свою приверженность определенным видам будущего взаимодействия, и свою веру в их возможность.
Хотя Рорти и не предоставляет формального анализа надежды (ближе всего он подходит к нему, когда одобрительно ссылается на анализ надежды у Дьюи как «способности верить, что будущее будет безусловно отличаться от прошлого и безусловно будет более свободным, чем прошлое», Rorty 1999: 120), его употребление термина «надежда» более или менее согласуется со стандартным определением. В этом смысле «политическая делиберация предполагает надежду».
Однако он также прибавляет к данному определению важный этический компонент, поскольку он сосредотачивается на формах надежды, затрагивающих интерсубъективные взаимодействия: обращаться к другим с надеждой на соглашение значит выражать либеральную добродетель цивилизованности (Рорти 1997: 235).
По мере развития философии Рорти понятие надежды становится для него все более значимым.
В «Случайности, иронии и солидарности» Рорти противопоставляет две разновидности либерализма.
«Либеральный метафизик» ожидает, что социальное сотрудничество будет основано на научной или философской интуиции, которая схватывает индивидуальные особенности и стремится к достижению того всеобщего, конечного словаря, что приведет к солидарности.
«Либеральный ироник», напротив, отвергает идею конечного словаря. Признавая, что лишь случайное взаимоналожение «эгоистических надежд» (Рорти 1996: 127) может служить источником солидарности, либеральный ироник также должен отвергнуть идею, что существует нечто сущностно и универсально человеческое, что предоставит нам основание для солидарности. Вместо этого нам следует попытаться выстроить солидарность из разделяемых переживаний и интересов (Rorty 1999: 87).
По мнению Рорти, прагматисты и в частности Дьюи (см. раздел 2.6) лучше всего поняли эти различные аспекты надежды. В эпистемическом измерении они приняли разновидность надежды, которая «не требует поддержки „идеей трансцендентального или длящегося субъекта“» (Rorty 1982: 206) или «подкрепления философией истории» (Rorty 1998: 243).
В политическом измерении прагматистский экспериментализм допускает либеральную надежду — надежду на «глобальное, космополитическое, демократическое, эгалитарное, бесклассовое, бескастовое общество» (Rorty 1999: xii) — без того, чтобы основывать ее в исторической телеологии или абстрактном утопизме. Этот либерализм также преуспевает в выделении привлекательных аспектов как христианства, так и марксизма без того, чтобы наследовать их метафизические пороки.
Наиболее интересная особенность теории Рорти заключается в том, что главная добродетель, приписываемая им надежде (в сравнении со знанием) как точке опоры политики, состоит в следующем: она «не требует оснований» (Rorty et al. 2002b: 58), и некоторые надежды даже могут быть «неоправдываемыми» (Rorty 1982: 208). Как отмечает Николас Смит (Smith 2005a), речь здесь идет вовсе не о неоправданной надежде (надежде, у которой нет адекватного оправдания, хотя такое оправдание в целом возможно).
Скорее, он имел в виду надежду, для которой вопрос оправдания попросту не встает, или надежду, которая строго неоправдываема в том же смысле, в каком неоправдываемой является надежда на невозможное. Второе толкование почти не получает текстуальных подтверждений (Smith 2005a: 94), однако Рорти последовательно придерживается первой интерпретации в своих политических сочинениях.
Тем не менее отсутствие потребности в метафизическом оправдании надежды не подразумевает, что мы неспособны разделять более или менее весомые формы надежды. Как утверждает далее Смит (Smith 2005a: 95), Рорти признает, что безнадежность всегда основывается на отсутствии нарратива политического прогресса. По этой причине, если такой нарратив доступен, политическая надежда получает рациональную поддержку.
Библиография
Сочинения Фомы Аквинского цитируются в соответствии с Corpus Thomisticum (доступен онлайн): SsS — «Комментарии на „Сентенции“ Петра Ломбардского» (Scriptum super Sententiis), ST — «Сумма теологии» (Summa Theologiae).
Сочинения Канта цитируются в соответствии с академическим изданием (AE): Königliche Preußische (позднее Deutsche) Akademie der Wissenschaften (ed.), 1900–, Kants gesammelte Schriften, Berlin: Georg Reimer (позднее Walter De Gruyter), за исключением «Критики чистого разума». Указания на страницы последней следуют стандартной пагинации первого (A) и второго (B) ее изданий.
Процитированные (с указанием в тексте статьи латинского номера тома) русскоязычные собрания сочинений Канта и других авторов включены в перечень источников ниже.
• Августин, Аврелий, 2000, Творения, 4 тт., Санкт-Петербург, Алетейя.
• Арендт, Ханна, 2000, Vita activa, или О деятельной жизни, Санкт-Петербург, Алетейя.
• Аристотель, 1983, «Никомахова этика», Сочинения, Москва, Мысль, т. 4, с. 53–294.
• Гесиод, 2001, «Труды и дни», Полное собрание текстов, Москва, Лабиринт, с. 51–75.
• Гоббс, Томас, 1991, «Левиафан», Сочинения, Москва, Мысль, т. 2.
• Декарт, Рене, 1989, «Страсти души», Сочинения, Москва, Мысль, т. 1, с. 481–572.
• Джеймс, Уильям, 1997, Воля к вере, Москва, Республика.
• Камю, Альбер, 1990, Бунтующий человек, Москва, Республика.
• Кант, Иммануил, 1994, Сочинения, тт. I–IX, Москва, Чоро.
• Ницше, Фридрих, 2005–2014, Полное собрание сочинений, тт. I–XIII, Москва, Культурная революция.
• Платон, 1990–1994, Сочинения, тт. I–IV, Москва, Мысль.
• Рорти, Ричард, 1996, Случайность, ирония и солидарность, Москва, Русское феноменологическое общество.
• –—, 1997, Философия и зеркало природы, Новосибирск, Изд-во Новосиб. ун-та.
• Сенека, Луций, 1977, Нравственные письма к Луцилию, Москва, Наука.
• Спиноза, Бенедикт, 1999, Сочинения, тт. I–II, Санкт-Петербург, Наука.
• Фома Аквинский, 2006–2012, Сумма теологии (пер. с лат. А.В. Апполонова), тт. I–V, Москва.
• Фукидид, 1999, История, Москва, Ладомир — ООО «Фирма «Издательство АСТ».
• Шопенгауэр, Артур, 1999–2001, Собрание сочинений, тт. I–VI, Москва, ТЕРРА — Книжный клуб, Республика.
• Юм, Дэвид, 1996, «Трактат о человеческой природе», Сочинения, Москва, Мысль, т. 1.
• Aspinwall, Lisa G. and Samantha L. Leaf, 2002, “In Search of the Unique Aspects of Hope: Pinning Our Hopes on Positive Emotions, Future-Oriented Thinking, Hard Times, and Other People”,Psychological Inquiry, 13(4): 276–288.
• Aronson, Ronald, 2012, “Albert Camus”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/camus/>.
• Augustine of Hippo, Political Writings, E.M. Atkins and R.J. Dodaro (ed.), Cambridge:Cambridge University Press, 2001.
• Bernier, Mark, 2015, The Task of Hope in Kierkegaard, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198747888.001.0001
• Bidmon, Agnes, 2016, Denkmodelle der Hoffnung in Philosophie und Literatur. Eine typologische Annäherung, Berlin/Boston: de Gruyter.
• Bloch, Ernst, [1954–1959] 1986, The Principle of Hope, 3 volumes, transl. N. Plaice, S. Plaice and P. Knight, Cambridge: The MIT Press, 1986.
• Bovens, Luc, 1999, “The Value of Hope”, Philosophy and Phenomenological Research, 59(3): 667–681. doi:10.2307/2653787
• Calhoun, Cheshire, forthcoming, “Motivating Hope”, in Doing Valuable Time: The Present, the Future, and Meaningful Living, Oxford: Oxford University Press.
• Camus, A., [1938] 1970, “Nuptials” [“Noces”], in Lyrical and Critical Essays, transl. E. C. Kennedy, New York: Vintage, 1970, 63–106.
• Caston, Ruth R. and Robert A. Kaster, 2016, Hope, Joy and Affection in the Ancient World, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780190278298.001.0001
• Chignell, Andrew, 2013. “Rational Hope, Moral Order, and the Revolution of the Will”, in Eric Watkins (ed.), Divine Order, Human Order, and the Order of Nature: Historical Perspectives, Oxford: Oxford University Press, pp. 197–218. doi:10.1093/acprof:oso/9780199934409.003.0009
• Cobb, Aaron D., 2015, “Hope as an Intellectual Virtue?”, The Southern Journal of Philosophy, 53(3): 269–285. doi:10.1111/sjp.12112
• Day, J.P., 1969, “Hope”, American Philosophical Quarterly, 6(2): 89–102.
• Dewey, John, [1916] 1980, “Democracy and Education”, in The Middle Works, 1899–1924, Vol 7, JoAnn Boydston (ed.), Carbondale: Southern Illinois University Press.
• Dodaro, Robert, 2007, “Augustine on the Statesman and the Two Cities”, in Mark Vesey (ed.), A Companion to Augustine, Chichester: Blackwell, pp. 386–397.
• Downie, R.S., 1963, “Hope”, Philosophy and Phenomenological Research, 24(2): 248–51. doi:10.2307/2104466
• Fink-Eitel, H., 1988, “Das Rote Fenster. Fragen nach dem Prinzip der Philosophie von Ernst Bloch”, Philosophisches Jahrbuch, 95(2): 320–337.
• Fishman, Stephen M. and Lucille McCarthy, 2007, John Dewey and the Practice and Philosophy of Hope, Urbana: University of Illinois Press.
• Flikschuh, Katrin, 2010, “Hope as Prudence: Practical Faith in Kant’s Political Thinking”, in: Jürgen Stolzenberg and Fred Rush, (eds.) Faith and Reason. International Yearbook of German Idealism (7/2009), Berlin/New York: de Gruyter, pp. 95–117.
• Frank, J., 1968, “The Role of Hope in Psychotherapy”, International Journal of Psychiatry, 5(5): 383–395.
• Frede, Dorothea, 1985, “Rumpelstiltskin’s Pleasures: True and False Pleasures in Plato’s ‘Philebus’”, Phronesis, 30(2): 151–80.
• Fremstedal, Roe, 2012, “Kierkegaard on the Metaphysics of Hope”, The Heythrop Journal, 51–60. doi:10.1111/j.1468-2265.2011.00714.x
• Godfrey, Joseph J., 1987, A Philosophy of Human Hope, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
• Gravlee, G. Scott, 2000, “Aristotle on Hope”, Journal of the History of Philosophy, 38(4): 461–477. doi:10.1353/hph.2005.0029
• Green, Jeremy N., 2008, Pragmatism and Social Hope: Deepening Democracy in Global Contexts, New York: Columbia University Press.
• Judaken, Jonathan and Robert Bernasconi (eds), 2012, Situating Existentialism, New York: Columbia University Press.
• Kierkegaard, Søren, [1847] 1995, Works of Love, H.V. Hong and E.H. Hong (transl. and eds.), Princeton/ New Jersey: Princeton University Press, 1995.
• –––, [1851] 1990, For Self-Examination. Judge for Yourself, H.V. Hong and E.H. Hong (transl. and eds.), Princeton: Princeton University Press, 1990.
• –––, [1843–1844] 1990, Eighteen Upbuilding Discourses, H.V. Hong and E.H. Hong (transl. and eds.), Princeton: Princeton University Press, 1990.
• Kleingeld, Pauline, 2012, Kant and Cosmopolitanism. The Philosophical Ideal of World Citizenship, Cambridge: Cambridge University Press.
• Koopman, Colin, 2006, “Pragmatism as a Philosophy of Hope: Emerson, James, Dewey, Rorty”, The Journal of Speculative Philosophy, 20(2): 106–116. doi:10.1353/jsp.2006.0020
• –––, 2009, Pragmatism as Transition: Historicity and Hope in James, Dewey, and Rorty, New York: Columbia University Press.
• Lear, Jonathan, 2008, Radical Hope. Ethics in the Face of Cultural Devastation, Cambridge: Harvard University Press.
• Lewis, John David, 2006, Solon the Thinker. Political Thought in Archaic Athens, London: Duckworth.
• Lippitt, John, 2015, “Learning to Hope: The Role of Hope in Fear and Trembling”, in Daniel Conway (ed.), Kierkegaard’s Fear and Trembling: A Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 122–141. doi:10.1017/CBO9781139540834.008
• Lopez, Shane J., Roseanne Ciarlelli, Lisa Coffman, Marion Stone, and Lisa Wyatt, 2000, “Diagnosing for Strengths: On Measuring Hope Building Blocks”, in C.R. Snyder (ed.). Handbook of Hope Theory, Measures and Applications, San Diego: Academic Press, pp. 57–85. doi:10.1016/B978-012654050-5/50006-3
• Magaletta, Philip R. and J.M. Oliver, 1999, “The Hope Construct, Will, and Ways: Their Relations with Self-Efficacy, Optimism, and General Well-Being”, Journal of Clinical Psychology, 55(5): 539–551. doi:10.1002/(SICI)1097-4679(199905)55:5<539::AID-JCLP2>3.0.CO;2-G
• Malantschuk, G. (ed.), 1978, Søren Kierkegaard’s Journals and Papers (Volume 2), Indianapolis: Indiana University Press.
• Marcel, Gabriel, [1952] 2010, Homo Viator. Introduction to the Metaphysics of Hope, transl. E. Craufurd and P. Seaton, South Bend: St. Augustine’s Press, 2010.
• Martin, Adrienne M., 2013, How We Hope: A Moral Psychology, Princeton: Princeton University Press.
• McDonald, William, 2014, “Hope”, in Steven M. Emmanuel, William McDonald and Jon Stewart (eds.) Kierkegaard’s Concepts. Tome III: Envy to Incognito (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, volume 15), London: Ashgate, pp. 163–168
• McGeer, Victoria, 2004, “The Art of Good Hope”, Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 592: 100–127. doi:10.1177/0002716203261781
• Meirav, Ariel, 2009, “The Nature of Hope”, Ratio, 22(2): 216–33. doi:10.1111/j.1467-9329.2009.00427.x
• Miceli, Maria and Cristiano Castelfranchi, 2010, “Hope: The Power of Wish and Possibility”, Theory and Psychology, 20(2): 251–276. doi:10.1177/0959354309354393
• Moellendorf, Darrel, 2010, “Hope as a Political Virtue”, Philosophical Papers, 35(3): 413–433. doi:10.1080/05568640609485189
• O’Neill, Onora, 1996, “Kant on Reason and Religion”, Tanner Lectures on Human Values, [O’Neill 1996 available online].
• Pettit, Philip, 2004, “Hope and Its Place in Mind”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 592(1): 152–165. doi:10.1177/0002716203261798
• Rand, Kevin L. and Jennifer S. Cheavens, 2009, “Hope Theory”, in Shane J. Lopez and C.R. Snyder (eds.), The Oxford Handbook of Positive Psychology (second edition), Oxford: Oxford University Press, pp. 323–334. doi:10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0030
• Ratcliffe, Matthew, 2013, “What is it to Lose Hope?”, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 12(4): 597–614. doi:10.1007/s11097-011-9215-1
• Rorty, Richard, 1982, Consequences of Pragmatism, Minneapolis: University of Minnesota Press.
• –––, 1998, Truth and Progress (Philosophical Papers, Vol. 4), Cambridge: Cambridge University Press.
• –––, 1999, Philosophy and Social Hope, Middlesex: Penguin Books.
• –––, 2002, “Hope and the Future”, Peace Review, 14(2): 149–155. doi:10.1080/10402650220140166
• Rorty, Richard, Derek Nystrom, and Kent Puckett, 2002, Against Bosses, Against Oligarchies: A Conversation with Richard Rorty. Chicago: Prickly Paradigm Press.
• Rossi, Philip, 1982, “Kant’s Doctrine of Hope: Reason's Interest and the Things of Faith”, New Scholasticism, 56(2): 228–238. doi:10.5840/newscholas198256231
• Schlette, Heinz Robert, 1995, “Der Sinn der Geschichte von Morgen”. Albert Camus’ Hoffnung, Frankfurt: Joseph Knecht.
• Schulz, Ortrun, 2002, Schopenhauers Kritik der Hoffnung, Frankfurt: Peter Lang.
• Segal, Gabriel and Mark Textor, 2015, “Hope as a Primitive Mental State”, Ratio, 28(2): 207–222. doi:10.1111/rati.12088
• Shade, Patrick, 2001, Habits of Hope. A Pragmatic Theory, Nashville: Vanderbilt University Press.
• Smith, Nicholas H., 2005a, “Rorty on Religion and Hope”, Inquiry, 48(1): 76–98. doi:10.1080/00201740510015365
• –––, 2005b, “Hope and Critical Theory”, Critical Horizons, 6(1): 45–61. doi:10.1163/156851605775009528
• Snow, Nancy E., 2013, “Hope as an Intellectual Virtue”, in Michael W. Austin (ed.), Virtues in Action. New Essays in Applied Virtue Ethics, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 153–170.
• Snyder, C.R., 2002, “Hope Theory: Rainbows in the Mind”, Psychological Inquiry, 13(4): 249–275. doi:10.1207/S15327965PLI1304_01
• Snyder, C. R., Cheri Harris, John R. Anderson, Sharon A. Holleran, Lori M. Irving, Sandra T. Sigmon, Lauren Yoshinobu, June Gibb, Charyle Langelle, and Pat Harney, 1991, “The Will and the Ways: Development and Validation of an Individual-Differences Measure of Hope”,Journal of Personality and Social Psychology, 60(4): 570–85. doi:10.1037/0022-3514.60.4.570
• Stotland, Ezra, 1969, The Psychology of Hope, San Francisco: Jossey-Bass.
• Treanor, Brian and Brendan Sweetman, 2016, “Gabriel (-Honoré) Marcel”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/marcel/>.
• Verdenius, William Jacob, 1985, A Commentary on Hesiod, Works and Days, Leiden: Brill.
• Vogt, Katja M., forthcoming, “Imagining Good Future States: Hope and Truth in Plato's Philebus”, in Richard Seaford, John Wilkins and Matthew Wright (eds.), On the Psyche, Oxford: Oxford University Press.
• Walker, Margaret Urban, 2006, Moral Repair: Reconstructing Moral Relations after Wrongdoing, Cambridge: Cambridge University Press.
• Wheatley, J.M.O., 1958, “Wishing and Hoping”, Analysis, 18(6): 121–131. doi:10.2307/3326568
• White, Patricia, 1991, “Hope, Confidence and Democracy”, Journal of Philosophy of Education, 25(2): 203–208. doi:10.1111/j.1467-9752.1991.tb00641.x

.jpg)