Суверенитет
Статья впервые опубликована 31 мая 2003 года; существенно переработана 25 марта 2016 года.
Несмотря на то, что значения понятия суверенитета менялись с ходом истории, у него есть базовое определение — верховная власть на определенной территории.
Это понимание политической власти, присущее Новому времени. Его исторические вариации могут быть рассмотрены в трех аспектах: носителя суверенитета, абсолютности суверенитета, а также его внутренних и внешних аспектов. Политическим институтом, воплощающем в себе суверенитет, является государство. Совокупность государств образует суверенную государственную систему.
Первый — это развитие системы суверенных государств, увенчивающееся Вестфальским миром 1648 г. Примерно в это же самое время суверенитет выдвинулся на первый план в политической мысли благодаря работам Макиавелли, Лютера, Бодена и Гоббса.
Второй процесс — процесс ограничения суверенного государства, который начался после Второй Мировой войны и с тех пор получил свое продолжение в европейской интеграции, в разработке и усилении законов и методов по защите прав человека. Наиболее значимая политическая мысль, отвечающая на этот процесс, вырабатывается в текстах таких критиков суверенитета, как Бертран Жувенель и Жак Маритен.
Определение суверенитета
В своей, ставшей классической, работе «Два тела короля» (1957) Эрнст Канторович описывает глубокую трансформацию понимания политической власти в ходе Средних веков. Изменения начались, когда концепция тела Христа развилась в идею двух тел — это corpus naturale, освященная гостия на алтаре, и corpus mysticum, социальное тело церкви с соответствующей административной структурой. Этому последнему понятию — понятию коллективной социальной организации, обладающей бессмертной мистической сущностью — суждено будет трансформироваться в политические образования, политическое тело. Дальше Канторович описывает появление в позднем Средневековье концепции двух тел короля, ярко воплощенной в шекспировском Ричарде II и которую можно применять к политическому телу раннего Нового времени.
Современная полития, которая возобладала в Европе раннего Нового времени, проявляет свойства коллективности, о которой писал Канторович — обособленной, объединенной, очерченной территориальными границами, обладающей общностью интересов, управляемой властью, сгруппированной в единую сущность и удерживавшей верховенство в продвижении интересов политии.
Хотя в раннее Новое время такой властью обладали короли, позднее ее могли осуществлять люди, правящие согласно конституции, нации, Коммунистическая партия, диктаторы, хунты и теократии. Современная полития известна нам как государство, а фундаментальной характеристикой власти в нем является суверенитет.
Эволюция, описанная Канторовичем, имеет формообразующий характер, поскольку
суверенитет является определяющей чертой современной политики. Некоторые
исследователи высказывали сомнения относительно существования устойчивого,
субстанциального понятия суверенитета. Но на самом деле есть определение,
охватывающее то, что суверенитет стал означать в Европе раннего Нового времени,
тогда как большинство последующих определений являются его вариациями — это верховная
власть на определенной территории. Именно этим качеством и обладали
государства раннего Нового времени, в то время как у пап, императоров, королей,
епископов и большинства дворян и вассалов в Средние века такое качество
отсутствовало.
Каждая составляющая этого определения подчеркивает один из важных аспектов понятия. Во-первых, носитель суверенитета обладает властью. Это не значит, что человек или институт просто обладает силой принуждения, понимаемую как способность А заставить B сделать то, что он в противном случае не сделал бы сам.
Власть — как ее определил философ Роберт Пол Вольф — это, скорее, «право повелевать и, соответственно, право быть тем, кому повинуются» (Wolff 1990:20). Самым важным в этой формулировке является термин «право», отсылающий к легитимности.
Принцип территориальности сегодня воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Верховная власть на определенной территории — таково общее определение суверенитета. Исторические проявления суверенитета практически всегда являются частными примерами этого общего определения. В самом деле, именно об этих примерах чаще всего говорили философы и политически ангажированные люди, притязавшие на суверенитет того или иного человека или свода законов. Таким образом, понимание суверенитета предполагает понимание притязаний на него, или по меньшей мере наиболее значимых из них.
За последние полвека эти притязания приняли исключительно разнообразные формы: нации, отстаивающие свою независимость от государств-метрополий, коммунисты, добивающиеся свободы от колонизаторов, vox populi, борющийся с anciens régimes, теократии, отвергающие власть светских государств, и многие другие. Разумеется, тот факт, что суверенное государство сумело приспособиться к столь разнообразным формам властного авторитета, свидетельствует о его гибкости и эластичности. Хотя мы не можем здесь привести весь перечень этих типов власти, три аспекта, через которые они могут быть поняты, помогут их классифицировать: это носители суверенитета, абсолютная и неабсолютная природа суверенитета и взаимосвязь между внутренними и внешними аспектами суверенитета.
Далее, суверенитет может быть абсолютным или неабсолютным.
Каким образом суверенитет может быть неабсолютным, если при этом он является верховным? Некоторые исследователи, например, Алан Джеймс, утверждают, что суверенитет, в конечном счете, может быть либо иметься, либо нет, но не может существовать частично (James 1999:462–464). Но в данном случае абсолютность относится не к объему или характеру суверенитета, который всегда должен быть верховным, но, в первую очередь, к сфере вопросов, над которыми носитель власти является сувереном. Боден и Гоббс рассматривали суверенитет как абсолютный, безоговорочно распространяющийся на все вопросы на данной территории. Однако власть может быть суверенной в некоторых вопросах на данной территории, но не во всех. Сегодня такую неабсолютность демонстрируют многие государства, являющиеся членами Европейского Союза (ЕС). Они обладают суверенитетом в руководстве обороной, но не в регулировании валюты, торговой политики и решении многих вопросов политики социального обеспечения, которые они осуществляют в сотрудничестве с властями ЕС, как это оговорено в законодательстве ЕС.
Подъем суверенного государства: теория и практика
«Верховная власть на данной территории» — в рамках этого определения суверенитет может быть понят более точно только через его историю. Эта история может быть рассказана как история двух масштабных процессов — во-первых, многовековой эволюции суверенных государств на европейском континенте, а затем и во всем мире; во-вторых, ограничения абсолютных прерогатив суверена во второй половине XX века.
Согласно историку Дж. Р. Страйеру, Британия и Франция были весьма похожи на суверенные государства уже где-то около 1300 г., поскольку их короли обладали верховенством в пределах ограниченной территории. Но еще к началу Реформации в 1517 г. Европа была далека от Вестфаля. Ведь именно в эту эпоху произошел великий разворот хода истории, когда испанский король Карл V взошел на трон, объединив Кастилию, Арагон и Нидерланды, одновременно став императором Священной Римской Империи и получив исключительное право владения землями центральной Европы, — и в то же самое время принял на себя роль гаранта все еще значительных светских прерогатив Католической церкви внутри Империи, в частности, гаранта соблюдения церковной ортодоксии. Однако Карл V не был сувереном на территории Империи, так как князья и аристократия все еще сохраняли свои прерогативы, которые он никак не мог контролировать. В 1555 году система суверенных государств получила важную опору в Аугсбургском мире, где формула cuius regio, eius religio [чья страна, того и вера] позволила немецким князьям вводить собственное вероисповедание на всей своей территории. Но Аусбургский мир не был прочным. Многочисленные споры вокруг положений договора повлекли за собой непрекращающиеся войны, которые в конце концов привели к Тридцатилетней войне, завершившейся лишь в 1648 г. Вестфальским миром.
Ни в одном из положений договора не закреплены ни концепция суверенных государств, ни даже статус государства как правящей легитимной единицы. Разумеется, Вестфаль не сотворил систему суверенных государств ex nihilo, поскольку отдельные компоненты этой системы накапливались в течение столетий до договора; а после него сохранился ряд средневековых аномалий.
Однако в двух важных моментах — как в отношении законных прерогатив, так и в отношении практической власти — система суверенных государств восторжествовала.
Во-первых, государства стали практически единственной формой реальной конституированной власти в Европе, причем их власти больше ничего не угрожало со стороны Священной Римской Империи. Нидерланды и Швейцария добились неоспариваемого суверенитета, германские государства Священной Римской империи приобрели право на объединение за пределами Империи, в то время как дипломатические контакты и внешнеполитические проекты тогдашних великих держав выявили общность понимания системы суверенных государств.
Светская власть церкви также были урезана до такой степени, что она больше не могла бросить вызов суверенитету какого-либо государства. В ответ папа Иннокентий Х осудил договоры как «ничтожные, пустые, недействительные, беззаконные, несправедливые, проклятые, предосудительные, бессмысленные, лишенные смысла и силы на все времена» (цитата по Maland 1966:16).
Конечно, и здесь не все исследователи согласны с тем, что Вестфаль заслуживает своего статуса «учредительного момента». Дэниел Филпотт защищал ортодоксальную позицию в этом вопросе (Philpott 2001). Тем не менее в последние годы ряд исследователей пришел к выводу, что Вестфальский миф следует деконструировать и отвергнуть (Krasner 1999; Carvalho, Leira, and Hobson 2011; Nexon 2009; Osiander 1994; Osiander 2001; Teschke 2009). Как правило, эти исследователи настаивают на том, что важные элементы государственности существовали задолго до Вестфаля, и что важные элементы «иерархии», или ограничения суверенитета сверху, существовали еще долго после Вестфаля. Только долгосрочный консенсус исследователей сможет определить, как будет рассматриваться Вестфаль в дальнейшем.
Сегодня нормы суверенитета закреплены в Уставе ООН, Статья 2 п.4 которого запрещает посягательства на «политическую независимость и территориальную целостность», тогда как п.7 той же статьи резко ограничивает вмешательство.
Макиавелли наблюдал за политикой городов-государств в Италии эпохи Ренессанса и описывал, что должен был делать государь, чтобы способствовать процветанию республики, при условии, что ему дана верховная власть на его территории. Государь заведомо не был связан естественным правом, каноническим правом, евангельскими заповедями, или какими-либо другими нормами или авторитетами, накладывавшими обязательства на членов христианского мира. Наоборот, он должен был быть готов «не быть добрым» и совершать зло не потому, что зло перестало быть злом, а потому, что иногда это было необходимо для достижения цели, которая была главной для Макиавелли, — цели, соответствующей центральной идее его философии: силе и упорядоченности государства. Обязанностью государя была raison d’état. Он занимал верховенствующее положение на территории государства и отвечал за благополучие этого обособленного, единого тела.
Именно это видение и восторжествовало в Вестфале.
«Единство, универсальность и сущностная правота суверенного территориального государства, а также отрицание всякой вне-территориальной или независимой коммунальной формы жизни являются долговечным вкладом Лютера в политику» (Figgis 1907:91).
Конечно, Боден полагал, что тело, которое осуществляет суверенитет, связано естественным и божественным законом, хотя ни один человеческий закон не может судить по нему или к нему апеллировать. Еще любопытнее то, что он также считал, что при правильном осуществлении суверенитета будут соблюдены обычные и имущественные права. В целом не ясно, как такое ограничение должно было сочетаться с верховным статусом суверенной власти. Возможно, Боден считал, что такие права должны быть присущи правовому режиму, который сам по себе является суверенным по отношению к другим властям. Более того, он также допускал, что форма правления, которая реализует суверенную власть, вполне может варьироваться: это может быть монархия, аристократия или демократия, хотя сам он отдавал предпочтение монархии. Но как бы ни выглядело этот суверенное тело, оно не подчинялось никакому внешнему человеческому закону или авторитету на своей территории.
Как пишет Ф.Х. Хинсли:
Как Боден, так и Гоббс выступали за суверенитет как верховную власть. Эта концепция по-прежнему преобладает сегодня как предпосылка политического правления в государствах по всему миру, в том числе там, где суверенная система правовых норм устанавливает ограниченное правительство и гражданские права для индивидов. На протяжении веков складывались новые представления о том, кто является носителем суверенитета. Руссо, в отличие от Бодена или Гоббса, рассматривал весь коллектив людей внутри государства как суверена, правящего посредством их общей воли.
Ограничения суверенного государства: теория и практика
Только практика соблюдения прав человека, подкрепленная военным принуждением или сильной судебной системой, может существенно ограничить суверенитет. Прогресс в этом направлении начался после окончания Холодной войны, благодаря исторически важному пересмотру Вестфальского мира, в результате чего была ослаблена норма, на которой так настаивали заключенные тогда договоры, т.е. невмешательство. В целом ряде случаев начиная с 1990 г. Организация Объединенных Наций или другая международная организация санкционировала политическое действие, как правило, связанное с применением военной силы, которое государства раньше единодушно посчитали бы незаконным вмешательством во внутренние дела.
В этих случаях имело место санкционирование военных операций с целью устранения несправедливости внутри границ определенного государства или введение внешнего управления внутренними делами, например, полицейской деятельностью. В отличие от операций по поддержанию мира во время Холодной войны, эти операции обычно проводились без согласия правительства страны, подвергавшейся воздействию. Они имели место в Ираке, бывшей Югославии, Боснии, Косово, Сомали, Руанде, Гаити, Камбодже, Либерии и других странах. Хотя законность и целесообразность отдельных интервенций оспаривается государствами — например, бомбардировка США Ирака в декабре 1999 года и вмешательство НАТО в Косово не получили одобрения Совета Безопасности ООН так же, как и вторжение США в Ирак в 2003 году — масштабная практика интервенций, скорее всего, будет и дальше пользоваться поддержкой в Совете Безопасности ООН и других международных организаций.
Открытый призыв пересмотреть концепцию суверенитета для того, чтобы обеспечить возможность санкционированного международным сообществом вмешательства, прозвучал в документе «Обязанность защищать», написанном и подготовленном в 2001 году Международной комиссией по вмешательству и государственному суверенитету, которую правительство Канады созвало по просьбе генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Документ предполагает радикальный пересмотр классической концепции, чтобы суверенитет отныне включал в себя государственную «обязанность защищать» своих собственных граждан, ответственность, которую могут взять на себя внешние силы, когда государство совершает массовую несправедливость или не способно защитить своих собственных граждан. «Обязанность защищать» привлекла широкое международное внимание и выступает в качестве манифеста концепции такого суверенитета, который не является абсолютным и обусловлен внешними обязательствами.
Другой путь ограничения суверенитета представляет европейская интеграция. Эта идея также возникла как реакция на Холокост, катастрофу, которую многие европейские лидеры приписывали — по крайней мере, отчасти — отсутствию подотчетности у суверенного государства. Исторически наиболее горячие сторонники европейской интеграции происходили из католических христианско-демократических партий, чьи идеалы уходят корнями в средневековый христианский мир, где, по крайней мере теоретически, ни один лидер не был суверенным, но все лидеры были подотчетны некоему универсальному набору ценностей. И хотя они говорят современным языком прав человека и демократии, они перекликаются с изречениями папы Иннокентия Х о Вестфальском мире.
Европейская интеграция началась в 1950 году, когда шесть государств образовали Европейское объединение угля и стали, созданное в соответствии с Парижским договором. Объединение установило совместное международное управление угольной и сталелитейной промышленностью этих шести стран, предусматривающее исполнительный контроль через постоянно действующий бюрократический аппарат и обладающий правом решения Совет министерств, состоящий из министров иностранных дел каждого государства. Эта же модель была расширена до общей экономической зоны в Римском договоре 1957 г. Она была дополнена и усилена судебным органом — Европейским судом, а также законодательной властью — Европейским парламентом, непосредственно избираемым общеевропейским органом. Со временем европейская интеграция расширилась — в настоящее время этот институт состоит из двадцати восьми членов — и углубилась, как это произошло вслед за Маастрихтским договором 1991 г., который расширил полномочия этого института и переконфигурировал его в Европейский союз. Вовсе не заменяя собой государства, Евросоюз, скорее, «объединяет» важные аспекты их суверенитета в «наднациональный» институт, в котором их свобода действий ограничена (Keohane & Hoffman 1991). Они больше не являются абсолютно суверенными. Сегодня европейская интеграция идет быстрыми темпами. 1 декабря 2009 г. в полную силу вступил Лиссабонский договор, еще больше объединяя суверенитет посредством усиления Совета министров и Европейского парламента, создания позиции Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности (чтобы тот представлял единую позицию Евросоюза) и придания обязательной юридической силы Хартии Европейского союза по правам человека.
Ограничение суверенного государства посредством международных норм и наднациональных институтов находит свои параллели у современных философов, критикующих понятие абсолютного суверенитета. Их мысль не является полностью новой, так как еще в раннее Новое время такие философы, как Гуго Гроций, Альберико Джентили и Франсиско Суарес, хотя и признавали государство законным институтом, все же считали, что его власть должна быть ограниченной, а не абсолютной. Жестокий правитель, например, может быть подвергнут дисциплинирующему действию со стороны соседних правителей, что весьма похоже на современные представления о гуманитарной интервенции.
Две из числа наиболее важных атак на суверенитет со стороны политических философов после Второй мировой войны провели Бертран де Жувенель и Жак Маритен. В своей известной работе 1957 г. «Суверенитет: исследование политического блага» Жувенель признает, что суверенитет является важным атрибутом современной политической власти, необходимым для подавления конфликтов внутри государства и налаживания сотрудничества для защиты от внешних угроз. Но он решительно осуждает концепцию суверенитета Нового времени, которая создает власть, стоящую выше правил, власть, чьи указы должны считаться законными просто потому, что они исходят из ее воли. По мнению Жувенеля, суверенитет достиг своего апогея у Гоббса, в чьей «ужасной концепции все сводится к средствам принуждения, которые позволяют суверену раздавать права и диктовать законы так, как ему заблагорассудится. Но эти средства принуждения сами по себе являются лишь малой частью общественных сил, сосредоточенных в руках суверена» (Jouvenel 1957:197). Несмотря на все разногласия по поводу места и вида суверенитета, последующие мыслители, такие как Локк, Пуфендорф и Руссо, «испытали на себе соблазн этой механически совершенной конструкции» (Jouvenel 1957:198). Это был «час суверенитета в себе», пишет Жувенель, существование которого «отныне едва ли кто-нибудь рискнет отрицать» (Jouvenel 1957:198).
Как несложно судить по его описанию Гоббса, Жувенель относится к абсолютному суверенитету раннего Нового времени с большой тревогой. «Эта идея опасна сама по себе», — пишет он (Jouvenel 1957:198). Но вместо того, чтобы призывать к отказу от этой концепции, он считает, что суверенитет должен быть перенаправлен в такое русло, чтобы суверенная власть не желала ничего, кроме того, что законно. Мораль вовсе не определяется сувереном, она имеет самостоятельную ценность. Апеллируя к позиции «христианских мыслителей», он утверждает, что «существует…как справедливая, так и несправедливая воля» (Jouvenel 1957:201). «Власть», таким образом, «несет на себе обязанность приказывать то, что должно быть приказано» (Jouvenel 1957:201). Таково было понимание власти при ancien régime, когда влиятельные советники монарха могли перенаправлять его усилия на общее благо. Но что может направлять суверенную волю сегодня? Жувенель, по-видимому, сомневается в том, что дизайн судебной или конституционной системы будет достаточен сам по себе. Вместо этого он возлагает свои надежды на общие моральные принципы гражданства, которые ограничивают решения суверена.
Во второй главе своей работы 1951 г. «Человек и государство» Жак Маритен не проявляет никакой симпатии к суверенитету, даже такой ограниченной симпатии, какую испытывал Жувенель:
Ошибка Бодена и Гоббса состояла в том, что они представляли суверенитет как власть, которую народ постоянно передавал и отдавал в руки некоего внешнего образования, в их случае — монарху. Вместо того, чтобы представлять народ и быть ответственным перед ним, суверен стал трансцендентной сущностью, обладающей верховным и неотъемлемым правом управлять народом независимо от него самого — вместо того, чтобы представлять народ, будучи ответственным перед ним. Подобно Жувенелю, Маритен осуждает возвеличивание воли суверена, ведущее к тому, что справедливым считается то, что служит его интересу. Это идолопоклонство. Любая передача власти политического тела как ее собственной части, так и внешнему образованию (государственному аппарату, монарху, или даже народу) является нелегитимной, так как законность правления коренится в его связи с естественным правом.
Аргументы Маритена, католического философа, сходны с аргументами христианских философов Европы раннего Нового времен, критиковавших абсолютный суверенитет. Будучи свидетелями возвышения такой грозной сущности, как государство, они стремились установить пределы его могуществу и власти. Они были предшественниками тех, кто сегодня требует ограничений власти государства во имя прав человека; ограничений ради права останавливать геноцид и бедствия и оказывать помощь извне; они были предшественниками тех, кто требует Международного уголовного суда и наднационального образования, которое взяло бы на себя власть управления экономическими, а в наше время, возможно, и военными делами.
Идея ограничения суверенитета остается сильной в католичестве и других христианских традициях. Например, Папа Римский Бенедикт XVI в своей речи к Организации Объединенных Наций в 2008 году высказался в поддержку «Обязанности защищать». В последние годы политические философы либеральной традиции также стали выступать за ограничение суверенитета. В качестве двух примеров можно привести Томаса Погге (Pogge 1992 и 2008:174-201) и Аллена Бьюкенена (Buchanan 2004). Оба они придают суверенитету важный статус (однако не абсолютный моральный статус), но стремятся при этом оставить место для таких возможностей, как гуманитарная интервенция, одобренная Организацией Объединенных Наций, и более интенсивное развитие глобальных институтов по борьбе с бедностью.
Библиография (на русском языке)
· Гоббс, Томас, 2001. Левиафан. М.: Мысль.
· Гроций, Гуго, 1994. О праве войны и мира. М.: Научно-исследовательский центр «Ладомир».
· Канторович, Эрнст, 2015. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М.: Издательство института Гайдара.
· Лютер, Мартин, 1994. «О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться» / Он же. Избранные сочинения. СПб.: Андреев и согласие.
· Макиавелли, Никколо, 1990. Государь. М.: Планета.
· Маритен, Жак, 2000. Человек и государство. М.: Идея-Пресс.
· Шмитт, Карл, 2000. Политическая теология.. М.: КАНОН-пресс-Ц.
Библиография (на английском языке)
· Bartelson, J., 1995. A Genealogy of Sovereignty, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
· Bodin, J., 1992. On Sovereignty: Four Chapters From Six Books of the Commonwealth, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
· Figgis, J. N., 1907. From Gerson to Grotius 1414–1625, 2nd edition; reprinted, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1916.
· Fowler, M. R. and J. M. Bunck, 1995. Law, Power, and the Sovereign State, University Park, PA: Penn State Press.
· Grotius, H., 1625. The Rights of War and Peace, London: M. Walter Dunne, 1901.
· Hinsley, F. H., 1986. Sovereignty, second edition, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
· Hobbes, T., 1651. Leviathan, Harmondsworth, UK: Penguin, 1968.
· International Commission on Intervention and State Sovereignty: Report. 2001. The Responsibility to Protect, International Development Research Centre Publications [Preprint available online].
· James, A., 1986. Sovereign Statehood, London: Allen & Unwin.
· James, A., 1999. ‘The Practice of Sovereign Statehood in Contemporary International Society,’ Political Studies, 47(3): 457–473.
· de Jouvenel, B., 1957. Sovereignty: An Inquiry Into the Political Good, Chicago, IL: University of Chicago Press.
· Kantorowicz, E., 1957. The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Princeton, NJ: Princeton University Press.
· Keohane, R. O. and S. Hoffmann, 1991. ‘Institutional Change in Europe in the 1980s,’ in The New European Community: Decisionmaking and Institutional Change, R. O. Keohane and S. Hoffmann (eds.), Boulder, CO: Westview Press.
· Krasner, S. D., 1999. Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton, NJ: Princeton University Press.
· Kratochwil, F., 1989. Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
· Luther, M., 1523. Temporal Authority: To What Extent It Should Be Obeyed, Philadelphia, PA: Westminster Press, 1967.
· Machiavelli, N., 1532. The Prince and the Discourses, New York, NY: The Modern Library, 1950.
· Maland, David, 1966, Europe in the Seventeenth Century, London: Macmillan.
· Maritain, J., 1951. Man and the State, Chicago, IL: University of Chicago Press.
· Philpott, D., 2001. Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations, Princeton, NJ: Princeton University Press.
· Pogge, T., 1992, ‘Cosmopolitanism and Sovereignty,’ Ethics, 103: 48–75.
· Schmitt, Carl, 1922. Political Theology, Chicago: The University of Chicago Press, 1985.
· Spruyt, H., 1994. The Sovereign State and Its Competitors, Princeton, NJ: Princeton University Press.
· Wolff, R. P., 1990. The Conflict Between Authority and Autonomy, Oxford: Basil Blackwell.






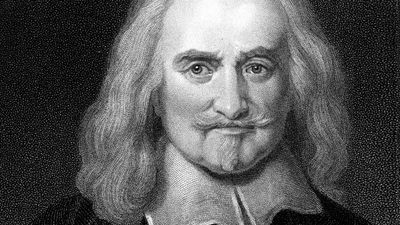

.jpg)




