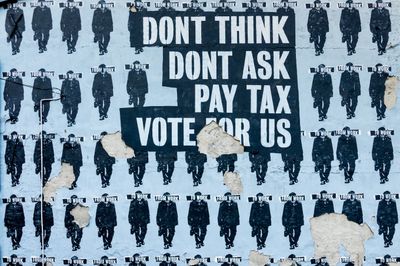Принуждение
Впервые опубликовано 10 февраля 2006 года; содержательно переработано 27 октября 2011 года
Понятие принуждения имеет два лика, которые соответствуют двум сторонам, участвующим в наиболее обыденных ситуациях [принуждения]. Один его лик обращен к технике, которой могут пользоваться агенты (принуждающие), побуждая других что-либо делать или отказаться от действия. Другой обращен к причине, по которой агенты (принуждаемые) иногда соглашаются или отказываются совершить что-либо. Считается, принуждение, как правило, влечет за собой ряд значительных последствий, в числе которых — сокращение свободы и ответственности агента, на которого направлено принуждение, и что оно‹1› (pro tanto) неправомерно ли является нарушением прав. Тем не менее лишь немногие полагают, что принуждение всякий раз неоправданно, поскольку представляется, что никакое общество не может существовать без в какой-то мере санкционированного (authorized) применения принуждения. Оно помогает сдерживать тех, кто настроен враждебно и не желает подчиняться, не позволяя им причинять вред другим. Также считается, что в сфере воспитания детей оно является незаменимым средством. Легитимность и суверенитет государства часто оценивают по его способности эффективно применять инструменты принуждения и удерживать монополию на их использование в границах своей территории против внутренних и внешних противников.
Из-за своей действенности и своих подчас разрушительных последствий принуждение является предметом давнего политического и этического интереса. Тем не менее до недавнего времени исследователи редко занимались последовательным изучением его природы. Многие были готовы признать, что понятие принуждение является простым. Однако, начиная с 1970х годов, природа и роль принуждения стали предметом важных философских обсуждений. Искрой, разжегшей этот интерес, вероятно, были социальные беспорядки (включая попытки их подавления) наряду с успехами некоторых национальных движений ненасильственного сопротивления. Не менее значимы были и трения между США и СССР, касавшиеся запасов ядерного оружия, посредством которого каждая из стран стремилась не дать второй совершить опаснейшие действия, в том числе путем превентивного ядерного удара. Недавно к интересу к теме принуждения добавился философский интерес к глобализации и терроризму. Новый интерес к этой теме совпадает с заметными переменами в том, как философы стали понимать его природу. Несмотря на происходящее с начала 1990х снижение внимания к данной теме, природа принуждения и его последствия продолжают оставаться предметом для дискуссий.
Термин «принуждение» используется в обыденной речи в весьма широком смысле. К примеру, можно услышать о «принуждении» в контексте социального давления (например, необходимость отвечать ожиданиям сверстников, успокаивать родителей), манипулятивного воздействия рекламы, воспитания или общественной «структурации» в более широком смысле (напр., необходимость участвовать в капиталистической экономике). Его также иногда толкуют как весьма общее понятие, обозначающее практически любое межличностное нарушение чьих-то прав. Такое словоупотребление не является совершенно чуждым для философских дискуссий (см., напр., Ripstein 2004). Тем не менее данная статья будет сосредоточена на более узком его смысле — ближе к тому, в каком его применяли крупнейшие философы прошлого и современные теоретики. Условимся, что это употребление исключает такие феномены, как простое неодобрение, эмоциональная манипуляция или выманивание чего-либо. (Что оно «включает» — вопрос дискуссионный, как будет показано ниже.) Такой минимальный набор ограничений по-прежнему оставляет значительное место для несогласия относительно того, как нам лучше понимать действие принуждения, его предварительные условия и последствия.
История
Использование принуждения со стороны могущественных акторов занимало философов и теоретиков права на протяжении истории. Тем не менее пристальное внимание к понятию принуждения — явление не столь давнего времени. Одно из следствий этого обстоятельства состоит в том, что иногда бывает трудно определить точное значение, которое более ранние авторы придавали понятию принуждения, равно как и определить, охватывает ли понятие принуждения феномены, обозначаемые такими часто используемыми терминами, как насилие, навязывание (compulsion), вмешательство и применение силы, или обозначает нечто от них отличное. Беглый анализ нескольких выдающихся мыслителей наводит на мысль, что принуждение чаще всего понималось как использование особого рода власти с целью обретения преимуществ перед другими (включая защиту себя), кары за неподчинение требованиям и для навязывания своей воли воле других агентов. Власть, необходимая для этих действий, есть та же власть, которой пользуются правительства и прочие располагающие силой или применяющие насилие агенты. Государственное обеспечение правопорядка, осуществляемое путем прямой силы или наказания правонарушителей, принято рассматривать как один из наиболее характерных и важных случаев использования принуждения. Считается, что государству разрешено применять принуждение в целях предотвращения актов насилия или принуждения, и также при наказании лиц, не выполняющих договоренности. Считается, что оправданием такого использования принуждения — т.е. во имя общественных целей — является то, что оно делает возможным мирное сожительство и частную кооперацию людей, не связанных друг с другом никакими чувствами или кровью.
Фома Аквинский
Хотя мы могли бы начать и с более ранних [авторов], за отправную точку мы возьмем Фому Аквинского, так как именно он выдвинул традиционное, каноническое толкование принуждения, его значения и последствий.
Рассмотрение принуждения (также иногда называемого «навязыванием») разворачивается в нескольких разделах «Суммы теологии». Размышляя о необходимости и о воле, он отмечает, что, говоря о необходимости, мы подразумеваем «то, чего не может не быть» (Фома Аквинский, СТ. Ч.I, т.3, вопрос 82, раздел 1, ответ).
Бывают разные виды необходимости.
Принуждение, говорит он, есть такой вид необходимости, в котором действия одного агента — принуждающего — делают нечто необходимым для другого агента. «Необходимость по принуждению» есть та, в которой «кто-либо принуждается некоторым действователем к чему-либо без возможности выбора противоположного» (там же). Такая необходимость «осуществляется совершенно вопреки воле» (там же) в том смысле, что сделанное по принуждению не совершается добровольно. Сказать, что нечто является добровольным, для Аквината означает, что оно соответствует склонностям человека или следует из них.
Принуждение же, наоборот, связано с понятиями насилия и недобровольности.
Для Фомы Аквинского закон и правительство состоят в особых отношениях с использованием принуждения. В рассуждении о природе (человеческого) закона Аквинский утверждает, что «в определение закона включены два [момента]: во-первых, он есть мера человеческих действий; во-вторых, он обладает силой принуждения» (СТ. Ч.II-I, т.4, вопрос 96, раздел 5).
Эта сила отождествляется с возможностью правителей использовать власть и насилие против своих подданных: «градоправитель наделен совершенной властью принуждения, по каковой причине он имеет право налагать такие неисправимые наказания, как смерть и увечье» (СТ. Ч.II-II, т.8, вопрос 65, раздел 2, ответ на возражение 2). Законы, полагает Аквинат, должны «посредством силы и страха» ограждать «безрассудных склонных к пороку, которых словами убедить невозможно» [пер. незначительно изменен], «дабы они, по меньшей мере, воздерживались от злодеяний и не беспокоили всех остальных», и «могли впоследствии совершать добровольно то, что ранее совершали из страха, и таким образом стали добродетельными» (СТ. Ч.II-I, т.6, вопрос 90, раздел 1, ответ). Эта власть не бывает доступна кому угодно: Аквинат утверждает, что функция принуждения должна быть «делом либо народа, либо публичного лица, которое имеет попечение о народе», и не передаваться в руки частным лица (СТ. Ч.II-I, т.6, вопрос 90, раздел 3, ответ на возражение 2). Тем не менее он допускает, что некоторые люди, такие как главы семейств («несовершенное сообщество»), должны применять «несовершенную властью принуждения, которая связана с наложением меньших и не причиняющих неисправимый вред наказаний, например битьем» (СТ. Ч.II-II, т.8, вопрос 65, раздел 2, ответ на возражение 2).
Аквинат также разделял общепринятое мнение, согласно которому принуждаемая сторона несет ответственность (или виновность) — по крайней мере при некоторых видах принуждения — за действия, совершенные по принуждению. Он настаивает, что человека не следует обвинять за то, что было сделано им недобровольно. Поскольку насилие уменьшает добровольность чьих-то деяний, то — как мы предположили выше — человека не следует за них винить. Насилие способно принуждать двумя способами: когда оно используется напрямую против чьего-то тела («Точно также человек может быть влеком посредством насилия, но смысловому содержанию насилия противоречит, чтобы это совершалось по его собственной воле» (СТ. Ч.II-I, т.4, вопрос 6, раздел 4)); и когда оно надламывает чью-то волю («воля может быть принуждаема насилием — настолько, насколько насилие может воспрепятствовать внешним членам исполнять повеление воли» (там же)). Однако интересно, что угроза‹2› насилия, которая вынуждает действовать из чувства страха или в целях избежать этого насилия, не делает, согласно Аквинату, совершаемое недобровольным. Так, только некоторые случаи насилия, совершенного ради воспрепятствования действиям другого человека, по-своему освобождают указанные лица от вины за действия, свершившиеся в результате насилия‹3› .
Гоббс, Локк, Кант
Эти три мыслителя эпохи модерна, по бессчетному числу вопросов расходясь в своих философских и этических взглядах, кажется, удивительно сходно смотрят на природу принуждения и его роль в функционировании справедливости и государства. Гоббсова слава политического теоретика, по крайней мере отчасти, происходит от той центральной роли, которой он наделял принуждение как необходимую составляющую функционирования государства. Договоры, как он отмечает, часто требуют исполнения обязанностей от одной стороны прежде, чем другая приступит к действиям. Из этого Гоббс заключает, что такой первый шаг был бы иррационален, не будь у первой стороны средств для подстраховки от последующих действий того, с кем он участвует в сделке.
«В самом деле, тот, кто первый выполняет условия соглашения, не имеет уверенности в том, что другой со своей стороны выполнит их потом, ибо там, где нет боязни принудительной власти, словесные обязательства слишком слабы, чтобы они могли обуздывать честолюбие, корыстолюбие, гнев и другие страсти […] Однако в гражданском состоянии, когда имеется власть, установленная для оказания принудительного воздействия на тех, кто без этого воздействия нарушил бы свое слово, такое опасение неосновательно, и потому тот, кто на основании соглашения должен первым выполнить зависящие от него условия, обязан так делать» (Гоббс 1991: 103-104).
Интересно, что Гоббс, похоже, разделяет мнение Фомы Аквинского на счет того, что действие, совершенное под воздействием страха, не теряет от этого в добровольности, или, следуя его знаменитой формулировке, «соглашения, исторгнутые под влиянием страха, действительны» (Гоббс 1991: 105). По крайней мере, если это соглашение, нужное для защиты чьей-то жизни, и не существует суверенной власти, мешающей заключить такое соглашение.
В общем виде, сама возможность установления справедливости и несправедливости покоится на возможности для принуждающих субъектов придерживаться заключенных соглашений.
Таким образом, Гоббс настаивает, что принуждение сущностно необходимо как для оправдания, так и для существования государства, или республики (commonwealth). По правде говоря, естественный закон состоит в том, что мы ищем защиты у принуждающей власти Левиафана, чтобы выйти из опасных условий естественного состояния.
Возможно, что обсуждать взгляды Локка на принуждение было бы бесцеремонно, поскольку термин «принуждение» и его инварианты употребляются им крайне редко‹4› . Но он, почти не говоря о принуждении, считает, как и Гоббс, что функция государственной власти неразрывно связано с обеспечением безопасности индивидов от тех, кто может их убить, ранить или ограбить.
«Политической властью я считаю право создавать законы, предусматривающие смертную казнь и соответственно все менее строгие меры наказания для регулирования и сохранения собственности, и применять силу сообщества для исполнения этих законов и для защиты государства от нападения извне — и все это только ради общественного блага» (Локк 1998: 262).
Локка более, чем Гоббса, настораживает власть суверена, но его не так тревожат условия естественного состояния. Одну из причин сместить взгляд с одного предмета беспокойства на другой он находил в том, что носители политического суверенитета скорее, чем простые люди из естественного состояния, являются потенциальными угнетателями, поскольку суверены способны воспользоваться организованной силой и насилием.
«Нельзя предположить, чтобы они [народ] намеревались […] передать какому-либо лицу или нескольким лицам абсолютную деспотическую власть над своими личностями и достоянием и вложить власть в руки должностного лица для того, чтобы тот неограниченно творил произвол в отношении их […] Если же мы предположим, что они подчиняли себя абсолютной деспотической власти и воле одного законодателя, то они обезоружили себя и вооружили его, так что он в любую минуту может сделать их своей добычей. Ведь в гораздо худшем положении находится тот, кто зависит от деспотической власти одного человека, имеющего у себя под началом 100 000, чем тот, кто подчиняется деспотической власти 100 000 отдельных людей» (Локк 1998: 341-342).
Поскольку индивиды не могут/не будут сознательно передавать власть неконтролируемому суверену, Локк настаивает также на том, что способность агента обладать властью и эффективно ее использовать во многом покоится на правомерности использования власти, которой он располагает:
И если кто-либо из находящихся у власти превышает данную ему по закону власть и использует находящуюся в его распоряжении силу для таких действий по отношению к подданному, какие не разрешаются законом, то он при этом перестает быть должностным лицом, и поскольку он действует подобным образом без надлежащих полномочий, то ему можно оказывать сопротивление, как и всякому другому человеку, который силой посягает на права другого. […] Тому, кто имеет право схватить меня на улице, можно оказывать сопротивление как разбойнику и грабителю, если он попытается вломиться в мой дом, чтобы исполнить данное ему предписание, хотя я и знаю, что он имеет ордер и обладает юридическими полномочиями, дающими ему право арестовать меня вне дома» (Локк 1998: 378-379).
В частности, Локк полагает, что система прав собственности не может быть навязана государством, если это не позволит каждому обеспечивать свое собственное экономическое выживание. Человек вправе защищать то, что он потрудился создать, в той мере, — касательно земли и природных ресурсов, — в какой «достаточное количество и того же самого качества [предмета труда] остается для общего пользования других» (Локк 1998: 276). Эта «оговорка Локка», как называет ее Нозик (Нозик 2008: 86 или 227), создает своего рода изначальное условие (baseline condition), отталкиваясь от которой мы можем судить о приемлемости того или иного набора принудительных мер. Итак, власть суверена для Локка больше, чем для Гоббса, покоится на согласии управляемых — не только для ее оправдания, но и для ее устойчивости против революции, к которой Локк был явно благорасположен более, чем Гоббс.
Кант также уделяет большое внимание значению принуждения для гарантии прав граждан, хоть он почти не объясняет значение этого термина. Единственное заметное рассуждение Канта о принуждении можно найти в «Учениях о праве‹5›» — трактате о природе права. Кант полагает, что есть два вида «мотивов», заставляющих следовать закону: этический и юридический. Этический (т.е. рациональный) мотив следовать закону есть мотив долга. Но поскольку воля некоторых людей определяется патологически, — то есть скорее влечениями и отвращениями, чем долгом, — появляется нужда в том, чтобы заставить таких людей повиноваться закону — посредством страха перед наказанием (Кант 1994: 240). Принуждение, следовательно служит инструментом, с помощью которого закон заставляет неповинующихся ему уважать права других, хотят они того или нет. Кант связывает это с исполнительной властью правителя государства и с использованием правителем наказания согласно закону. Кант достаточно ясно говорит, что принуждение считается помехой к свободе, и в этом отношении оно сходно со всеми нарушениями человеческих прав. Но принуждение может быть использовано для предотвращения прочих нарушений прав, и, таким образом, может быть оправдано на том основании, что оно является препятствием для препятствия свободе. «Право и правомочие принуждать означают одно и то же» (Там же: 256).
Взгляды Канта на необходимость принуждения для существования права отличны от взглядов Гоббса или Локка, но в целом он солидарен с идеей, что государству требуется правомочие использовать принуждение для защиты равной свободы своих подданных. Без таких правомочий к принуждению человек может обладать «частным правом», но оно нисколько не превышает те права, которыми обладает человек в естественном состоянии, где они совершенно не защищены.
«Правда, естественное состояние такого человека могло быть состоянием несправедливости (iniustus) не потому, что люди в этом состоянии строят свои отношения на одной только силе; но все же оно было состоянием, в котором отсутствовало право (status iustitiae vacuus) и в котором, если право оказывалось спорным (ius controversum), не находилось компетентного судьи, который мог бы вынести имеющий законную силу приговор; поэтому каждый человек, находящийся в таком состоянии, вправе насильно побуждать другого человека вступить в правовое состояние; […] такое приобретение [прав] все же лишь предварительное, пока оно не санкционируется публичным законом, потому что это приобретение не определено никакой общественной (распределяющей) справедливостью и не гарантировано никакой осуществляющей это право властью» (Там же: 343-44).
Итак, Кант, как и Гоббс с Локком, полагает, что для достижения справедливости людям необходимо установить государство, обладающее принудительной властью.
Джон Стюарт Милль
Что касается размышлений Милля о принуждении, он больше всего известен за свою точку зрения, изложенную в эссе «О свободе», где он говорит о том, чего нельзя делать с помощью принуждения: а именно, применять его для регулирования поведения людей во имя их же блага. Подобно своему предшественнику и наставнику Иеремии Бентаму, Милль связывает принуждение с полномочием государства карать правонарушителей. Но, в целом, похоже, что Милль имел более разработанные взгляды на принуждение, чем упомянутые выше авторы, и в эссе «О свободе» он рассматривал понятия «принуждение» и «вмешательство» как по большей части синонимичные. В заглавии к этой работе Милль пишет:
«Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы установить тот принцип, на котором должны основываться отношения общества к индивидууму, т.е. на основании которого должны быть определены как те принудительные и контролирующие действия общества по отношению к индивидууму, которые совершаются с помощью физической силы в форме легального преследования, так и те действия, которые заключаются в нравственном насилии над индивидуумом чрез общественное мнение. Принцип этот заключается в том, что люди, индивидуально или коллективно, могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради самосохранения […] Никто не имеет права принуждать индивидуума что-либо делать, или что-либо не делать, на том основании, что от этого ему самому было бы лучше, или что от этого он сделался бы счастливее, или наконец, на том основании, что, по мнению других людей, поступить известным образом было бы благороднее и даже похвальнее. Все это может служить достаточным основанием для того, чтобы поучать индивидуума, уговаривать, усовещивать, убеждать его, но никак не для того, чтобы принуждать его или делать ему какое-нибудь возмездие за то, что он поступил не так, как того желали» (Милль [Электронный ресурс]).
С помощью такой широкой трактовки принуждения Милль, очевидно, намеревался охватить ряд различных случаев, в которых могущественные агенты могли бы осуществлять в отношении других сдерживающую власть, помимо применения силы, насилия и угроз их применения. Так, например, Милль предполагает, что сила легальных наказаний зачастую больше связана с оставляемым ими клеймом, чем с фактически применяемыми наказаниями.
О законах против непопулярных взглядов Милль пишет:
Так, Милль порицает «деспотизм обычая» как силу, возможно, большую, чем имеется у правительств, за то, что она может задерживать развитие цивилизаций на протяжении веков (Там же).
В отличии от Гоббса, Локка или Канта, Милль осознает схожесть власти гражданских институтов и государства и рассматривает возможность принуждения со стороны этих негосударственных институтов как важную проблему. Например, размышляя об институте брака, Милль пишет:
«Пока закон все приобретенное женой будет признавать собственностью мужа, пока закон, заставляя ее жить с ним, принуждает жену подчиняться почти неограниченном моральному и физическому угнетению, какое только вздумает муж проявить по отношению к ней, до тех пор есть определенное основание считать любой поступок женщины совершенным как бы по принуждению». (Милль 1981: 361)
Наблюдая же условия детского труда, имевших место в его время, Милль отмечает:
Итак, миллевское понимание принуждения охватывает более широкий спектр проявлений власти как возможных средств принуждения, чем это было у прежних мыслителей.
Мнения из XX века до 1969 года
С появлением аналитических подходов в философии и праве в XX веке, философы и правоведы стали искать более точное и определенное значение понятия принуждения и его отношений с другими понятиями. В период до 1969-го года среди теоретиков, естественно, имелись разночтения, но, похоже, существовало и преобладающее представление о том, что является принуждением — в большей или меньшей степени следующее за взглядами Фомы Аквинского и Гоббса, Локка, Канта (как и за некоторыми воззрениями Бентама и Милля). Это представление связывало принуждение с применением силы или насилия, а также с угрозами их применения. К примеру, Ганс Кельзен объясняет природу закона следующим образом:
«Право отличается от других социальных порядков тем, что это — принудительный порядок. Его отличительный признак — использование принуждения; это означает, что акт, предусмотренный порядком в качестве последствия социально вредного действия, должен осуществляться также и против воли его адресата, а в случае сопротивления с его стороны — и с применением физической силы» (Кельзен: 2015: 50).
Кельзен продолжает считать принудительными такие акты, как заключение под арест подозреваемых в совершении преступлений, заключение для охраны, заключение душевнобольных, заключение в концентрационных лагерях возможных государственных преступников и конфискацию или уничтожение собственности (Кельзен 2015: 57).
Джон Лукас освещает похожую мысль под немного другим углом, ставя акцент на значимости технических средств, при помощи которых один агент (т.е. государство) может убедиться, что его решения были приведены в действие.
«Мы озабочены исполнением (enforcement) решений: мы рассматриваем условия, в которых решения будут исполняться независимо от непокорности тех, кто настроен враждебно. Следовательно, мы определяем силу в терминах кровожадности/воинственности, того, что происходит независимо от непокорности человека, что волей-неволей с ним случается. Следовательно, сила, скажем мы, применяется против человека, если в его личном опыте или в его окружении или происходит что-то, чего он не желает, но что он не в силах предотвратить, несмотря на все свои старания, или, когда вопреки всем его стараниям, ему не позволяют совершить что-то, что он желает и что могло бы быть совершено им одним. Человек находится под принуждением, если против него применяется сила или если его поведение обуславливается угрозой применения силы». (Lucas 1966: 57; курсив сохранен)
Если выбирать единственную непрерывную нить рассуждений, которая пронизывает различные соображения о принуждении, приведенные выше, то я считаю, что ее можно определить, как предлагает Лукас: речь идет о обеспокоенности по поводу возможности некоторых агентов реализовывать и обеспечивать соблюдение решений в отношении деятельности других. За возможным исключением Милля, который допускает более широкий спектр методов принуждения, чем другие авторы, похоже, что эта общая идея отражает то, что можно было бы счесть необъемлемым [элементом] понятия принуждения, как его использовали политические теоретики до эпохи модерна или в эпоху модерна, не важно, пользовались ли они этим словом или (в случае Локка) рассматривали обозначаемую им функцию.
Современные философские трактовки принуждения
Нозик и новый подход к принуждению
В 1969-м началась волна публикаций коротких статей о принуждении. Наиболее ранней работой, имевшей большое значение, была статья Роберта Нозика «Принуждение». Вскоре за ней последовал ряд эссе, посвященных теме принуждения, написанных политическими философами и опубликованных в серии Nomos (Pennock and Chapman 1972). Эти статьи, в свою очередь, вызвали поток отзывов и новых дискуссий о принуждении, продолжавшихся на протяжении 1970-х и 80-х. Влияние этих ранних дебатов о принуждении остается сильным и сегодня. По этой причине имеет смысл начать анализ современных трактовок принуждения с рассмотрения того, как эти ранние статьи сформировали данную тему.
Эссе Нозика, безусловно, было наиболее влиятельной из этих ранних работ. Кроме того, что оно появилось первым, оно установило общую рамку осмысления принуждения, которая дала интуитивно понятную картину действия принуждения. Нозик анализировал принуждение, предлагая набор необходимых и достаточных условий для суждения об истинности утверждения, что P принуждает Q. Несколько упрощая, он утверждал, что P принуждает Q, если и только если:
1. P намерен удержать Q от решения совершить действие A;
2. P сообщает утверждение Q;
3. Утверждение P свидетельствуют о том, что если Q совершит A, P произведет следствие, которое сделало бы совершение Q A менее желанным, чем не делание Q A;
4. Утверждение P заслуживают доверия Q;
5. Q не совершает A;
6. Причина для Q не совершать A частично состоит в том, чтобы уменьшить вероятность, что P произведет заявленные в пункте (3) следствия‹6› (Nozick 1969: 441–445) .
Многие теоретики приняли эту рамку эксплицитно или имплицитно, и она повлияла практически на все последующие дискуссии на эту тему в аналитической философии. Следующие разделы будут посвящены тем аспектам анализа Нозика, вокруг которых сосредоточилось больше всего внимания и обсуждения. В оставшейся части раздела мы кратко осветим менее заметную составляющую влияния анализа Нозика на дальнейшие дискуссии. В частности, будет показано, чем этот анализ отличается от более традиционных пониманий принуждения, которые мы ранее встречали у классических политических теоретиков.
Вкратце, метод Нозика расходится с более традиционными подходами в том, что он (1) связывает принуждение только с предложениями (к примеру, условными угрозами‹7› ) и исключает прямые применения силы или насилия‹8› ; (2) настаивает на том, что принуждение имеет место, только когда принуждаемая сторона на него соглашается; и (3) это делает принуждение целиком зависящим от решения принуждаемой стороны предпринимать или не предпринимать специфическое действие A, и предписывает, что суждение о принуждении должно отсылать к данным о психологии принуждаемого, таким как его/её оценка последствий действия A в свете предложений принуждающего. Суммарный эффект этих различий меняет фокус анализа принуждения: теперь рассматривается то, как принуждаемый аффектирован им, нежели то, что совершает принуждающий или что ему требуется, чтобы успешно это совершить. (См. Anderson 2008b.)
Принуждение угрозами и (не) силой
Одно существенное отклонение подхода Нозика от традиционных подходов к принуждению состоит в том, что он сужает рассмотрение принуждения до техник, которые влияют на или меняют волю принуждаемого, изменяя намерения или склонности принуждаемого. Подобное принуждение обычно принимает вид условной угрозы (или, иногда, условного предложения). Хотя несколько следующих авторов, таких как Майкл Бейлс (Bayles 1972; и Gunderson 1979, следуя за Бейлсом) и Грант Ламон (Lamond 1996 и 2000) рассматривали прямую силу как точно такое средство принуждения‹9› , нозиковское ограничение принуждения до применения угроз — то есть до принуждения, которое осуществляется через посредство воли принуждаемого — стало широко принятым взглядом, эксплицитно и имплицитно.
Есть веские причины считать осуществляемое через волю принуждение и прямую силу, или сдерживание, применяемое по отношению к телу, двумя видами действия одного рода. Во-первых, хотя прямая сила обычно не годится для того, чтобы заставить агента совершить какое-то действие, оба вида достаточно подходят, чтобы не дать агенту совершить ряд действий, причем прямая сила, или сдерживание, зачастую оказывается более убедительной. Во-вторых, эти две техники обычно применяются вместе. К примеру, полицейские надевают наручники и избивают некоего взятого под стражу человека, который отказывается им повиноваться, когда ему приказывают идти или стоять смирно. Точно так же заключенных принуждают оставаться в камере с помощью ряда наказаний за попытку побега, а также с помощью физических препятствий, ограничивающих возможность этого шага. Так, применение обеих техник, как правило, есть часть одной и той же деятельности, призванной побуждать или сдерживать действия агента (иногда влияя на то, что он может сделать) (Anderson 2008a и 2010). Само собой, в случае угрозы прямой силы зачастую оказывается так, что принуждаемое лицо не действует, а, скорее, действуют за него (rather is acted upon), как отмечает Генри Джон Маккласки (McCloskey 1980). Тем не менее, если смотреть из перспективы принуждающего, возможно, было бы равно справедливо, добиваясь исполнения своих решений, как вообще не позволять принуждаемому действовать, так и склонять его/ее выбрать бездействие.
(Не) неудачное принуждение
Конструкция Нозика указывает на то, что принуждение обязательно проходит успешно: если принуждаемый не поступает так, как того ожидают, то нет и случая принуждения. В большинстве случаев, кажется, попытка к принуждению присутствует. Можно было бы сказать, что Нозик встраивает в свой анализ принуждения «условие успеха». Есть те, кто несогласны с «условием успеха», хотя взгляд Нозика, по-видимому, соответствует большинству согласных с таким фактором. (Среди тех, кто согласен McCloskey 1980; Gorr 1986; Murray, Dudrick 1995; Berman 2002; единственный, кто не согласен — Carr 1988). Похоже, разногласие по вопросу, стоит ли соотносить случаи принуждения с тем или иным из упомянутых вначале ликов, подошло к концу: то есть связывать ли его с типом поведения принуждающего (которое может быть или не быть успешным), или связать его с конкретными событиями в жизни принуждаемого (а именно, с теми, которые меняют или ограничивают его деятельность). Некоторые из улавливающих это разногласие авторов предполагают, что мы могли бы отличать принуждение от принудительности, связывая первое с завершёнными успешными попытками, и последнее — с качеством самой попытки (Lamond 2000).
Само собой, если принуждаемый оказывает открытое неповиновение, то нет ни принужденного действия, которое можно было бы рассматривать, ни какого-либо вопроса о взятии ответственности за это действие. Есть так же основание усомниться, что то, что совершил принуждающий, достигает в таких случаях отметки, на которой нам следовало бы рассматривать это как принуждение. (Если угроза тривиальна, мы, скорее всего, не станем говорить, что агент подвергся принуждению, даже если его действия были направлены на то, чтобы избежать приведения угрозы в исполнение). С другой стороны, может быть неблагоразумно проводить категориальные различия между случаями, в которых принуждение совершилось, и теми, где оно не свершилось: разницы между ними в некоторых случаях может быть не больше, чем в настроении, в котором прибывала принуждаемая сторона в момент действия. Поскольку принуждающий имеет последнее и решающее слово в том, будет ли он участвовать в принуждении (и кто будет в нее включен), возможно, имело бы больше смысла связать интересующий нас феномен с этой определенной формой деятельности, которой занят принуждающий, признавая, что такие занятия могут как иметь, так и не иметь сколь-либо заметных последствий. (Потенциальный принуждающий, конечно, может блефовать, как и будущая жертва; само по себе это не дает повода отрицать, что перед нами пример исследуемой нами техники.)
Сводится ли концептуально принуждение к конкретным принужденным действиям?
В конечном итоге Нозик выстраивает свой анализ вокруг некоторого действия А, предпринятого или не предпринятого принуждаемым. Связь принуждения с конкретным совершённым или не совершенным действием представлялась естественной практически всем последующим комментаторам, несмотря на то, что она порождала некоторые проблемы, о которых по крайней мере сам Нозик, похоже, был осведомлён. В коротком отступлении, которое составляет вторую часть его эссе, Нозик ставит следующие вопросы: если P принуждает Q к действию A, и B и C — единственные способы совершить A, принуждает ли P Q к B (предполагая, что эти средства выбрал Q)? Подобным образом, если P принуждает Q не делать A, и A непременно предшествует B, принуждает ли P Q не делать B? Имеет ли значение, был ли Q нацелен/имел ли надежду/ожидание на B? В более общем виде, если после предшествующих актов принуждения P акт A больше невозможен для Q (возможно, Q об этом вовсе не размышляет), принудил ли P Q не совершать A? Нозик поднимает подобного рода вопросы, но оставляет их в стороне, не много говоря об их значимости (Nozick 1969: 445-447). Рассмотренные всерьез, они, однако, заставят значительно пересмотреть подходы к теоретическому анализу принуждения. Они покажут, что при строгом отождествлении принуждения с предпринятыми или отклоненными действиями могут возникнуть трудности, поскольку может оказаться невозможно правильно определить, какие действия подпадают под это описание.
В более общем плане анализ Нозика акцентируется на изменении выбора действия со стороны принуждаемого, проистекающим из того, как предложения принуждающего меняют основание для действия. Хотя этот подход правдоподобен в том отношении, что он позволяет отделять акты принуждения от не-принуждения, он фокусируется на том, как принуждаемый воспринимает свою ситуацию. Только посредством такой рефлексии принимается в расчет, как принуждающий оказывается способен создать это восприятие. Таким образом, данный подход игнорирует стандартные виды средств (сила, насилие, возможно, даже экономическое лишение), которыми пользуются принуждающие, и вместо этого рассматривают все виды изменений в издержках и выгодах принуждаемого как возможные маркеры принуждения. В то время как этот более экуменический подход к принуждению может успешно применяться для рассмотрения тех форм принуждения, которые традиционные теории оставляют в стороне, он сильно ограничивает способность теории отличать предложения, содержащие принуждение, от не содержащих принуждение. Неудивительно поэтому, что на этих трудностях оказалась сфокусирована большая часть последующих теоретических построений вокруг данного предмета.
Угрозы и изначальные условия
После выхода эссе Нозика теоретики часто рассматривали создание условной угрозы ключевым фактором принуждения. Самые большие усилия, затраченные на анализ принуждения, были направлены на осмысление таких угроз и определению их связи с принуждением. Некоторые, однако, ставили под вопрос связь принуждения с угрозами и выдвигали предположение, что условные предложения (offers) тоже могут быть принуждением. Можно утверждать, что и условные угрозы, и условные предложения (offers) суть предложения (proposals), которые различаются в своем отношении к нескольким изначальным условиям, репрезентирующим ситуацию принуждаемого, в которой он находится до адресованного ему предложения: в сравнении с исходной точкой, угрозы делают положение принуждаемого хуже, тогда как предложения — нет. В этом и двух следующих разделах мы рассмотрим некоторые трудности, касающиеся данной темы. В разделе 2.5 мы добавим к рассмотрению несколько подходов к принуждению, которые стараются избежать рассмотрения «исходной точки» при анализе угроз и предложений.
Большинство считает связь принуждения с угрозами чем-то само собой разумеющимся: вооруженные грабители, мафиози, родители маленьких детей и государство — все создают условные угрозы, стремясь приуменьшить приемлемость одних действий и делая другие более привлекательными по сравнению с ними. Тем не менее стоит отметить, что предложения также могут быть сделаны с таким же общим намерением, как и угрозы принуждения: то есть сделать одни действия более привлекательными, а другие менее. Рассмотрим базовую структуру условной угрозы со стороны P, которая ведёт к нежелательным последствиям C для некоего произведенного Q действия A.
P говорит, что (P осуществит последствия C, если и только если Q совершит A).
Эта пропозиция имеет ту же структуру, что и обыкновенное предложение P совершить что-то, чего желает Q, если Q согласен за это заплатить, но не наоборот. С другой стороны, это обыкновенное предложение имеет ту де структуру, что и угроза. Это наводит на мысль, что любое предложение (proposal) может быть прочитано как угроза или предложение (offer) в зависимости от отношений между предложением и несколькими поддающимися определению внешними факторами. («Твои деньги или твоя жизнь» может в равной мере быть предложено грабителем из подворотни и фармацевтической компанией; в одном случае это грабеж, в другом это может быть предложением, спасающим жизнь). Идея, что угроза принуждает, а предложение — нет, связана, как часто полагают, с тем фактом, что угрозы делают, чтобы сделать хуже тем, кому они адресуются. Если это так, нам требуется уточнить, как нам следует различать и оценивать члены отношения в этом сравнении, которое более коварно, чем кажется на первый взгляд. Рассмотрим сперва вопрос: какой аспект предложения релевантен для этого сравнения; и затем второй: какой релевантный пример сравнения (обычно называемый «изначальным условием») следует использовать.
Любое би-кондициональное предложение можно разложить на соединение двух составных простых кондиционалов, оба из которых могут быть верны, если верен сам би-кондиционалн. Тем не менее только один из двух кондиционалов удовлетворит свой антецедент (в зависимости от того, что выберет Q) и, следовательно, будет управлять тем, что окажется следствием. Если предложение будет иметь мотивирующее воздействие на того, кому оно адресовано, то причиной этого будет то, что тот, кому оно адресовано, предпочтет осуществление одного из двух возможных следствий: или что P приведет к C, или что P не приведет к C. Так, мы можем предположить, что именно различие в том, как Q оценивает эти последствия, мотивирует (если нечто вообще мотивирует) Q действовать в ответ на предложение P. (Если агент индифферентен в отношении обоих вариантов, мы можем рассмотреть предложение (proposal) как предложение (offer), но как такое предложение (offer), которое слишком непривлекательно, чтобы соблазнить кого-то его принять.) Так, мы посмотрим на кондиционал, содержащий менее предпочтительный консеквент, и сравним его с изначальным условием, чтобы увидеть, делает ли предложение P положение Q хуже, чем если он окажется в релевантном альтернативном положении. (Последующий анализ немного модифицирует анализ, проводимый‹10› в Gorr 1986, 391-397; и Berman 2002, 55-59 ).
Так, например, вооруженный грабитель делает оказавшейся с ним рядом незнакомке предложение, которое содержит следующий кондиционал:
(a) Если она не отдаст свои драгоценности, он нанесет ей вред;
(b) если она отдаст их, то не нанесет.
Незнакомка отдаёт предпочтение консеквенту (b), поэтому мы можем сравнить кондиционал (a) с изначальным условием. В нормальных условиях человеку, сохраняющему у себя свои драгоценности, не причиняют никакого ущерба. Итак, первый кондиционал делает положение незнакомки хуже ее нормального, превращая, таким образом, предложение грабителя в угрозу.
По контрасту с этим, рассмотрим предложение продавца, предлагающего покупателю следующее:
(c) Если покупатель заплатит X, продавец даст ему туристическую путевку;
(d) если покупатель не заплатит X, продавец не дает ему туристическую путевку.
Предполагая, что покупатель скорее предпочтет иметь туристическую путевку, чем не иметь ее, второй кондиционал содержит менее предпочтительный консеквент. Но не получить бесплатный отпуск в порядке вещей, поэтому человеку не станет хуже, если при нормальных обстоятельствах случилось второе условие. Поэтому продавец делает только предложение, а не угрозу.
(Некоторые авторы изучали «предложения/угрозы» (throffers), которые суть предложения, улучшающие положение человека относительно нормального положения дел при одних обстоятельствах, и ухудшающие при альтернативном условии. В дальнейшем анализе предложения/угрозы будут рассматриваться в числе угроз, поскольку условное содержание менее предпочтительного последствия меняет положение человека к худшему.)
Этот анализ пригоден для большинства целей. Поскольку мы чаще всего знаем, что нормально, а что нет, угрозы и предложения, как правило, легко различимы. Тем не менее возникают трудности, когда это не так.
Моральные и не-моральные изначальные условия
Нозик расширяет идею изначального условия, называя его «нормальным или естественно ожидаемым ходом событий» (Nozick 1969: 447). Но все эти термины амбиваленты в том смысле, что они обладают нормативным (или «моральным») и не-нормативным (т.е. «предсказательным») значением. Зачастую нормативное и предсказательное употребление будет относиться к тому же положению дел, что и отмеченный ход событий. Тем не менее расширения нормативного и не-нормативного использования иногда будут различаться, тем самым вынуждая теоретика выбрать то или иное, чтобы определить, считать ли конкретную коммуникацию угрозой или предложением, и, таким образом, принуждающей или не принуждающей.
Нозик предлагает два наиболее известных случая, в которых нормативные и ненормативные изначальные условия будут различаться. Вот один из них‹11› (Nozick 1969, 450-451)
Случай раба:
P — рабовладелец, который постоянно бьет своего раба Q. В один день P предлагает Q прекратить свои постоянные побои, если и только если Q отныне станет выполнять A.
Q выбирает не быть избитым, поэтому теперь мы смотрим на кондиционал
(e) Если Q не выполняет A, P будет бить Q.
Поскольку P постоянно бьет Q, осуществление этого кондиционала не причинит Q большего вреда, чем тот, который Q считает нормальным или ожидаемым (выражаясь статистически). Так что предложение P приравнивается к предложению (offer), а не угрозе — в соответствии с тем, что здесь считается нормальным. Хотя мы могли бы обоснованно утверждать, что если Q выберет избежать побоев, выполняя A, выбор Q будет реакцией на угрозу побоев и, следовательно, будет совершен под принуждением.
Случай раба демонстрирует амбивалентность нашего понимания того, «что нормально» (или «что ожидается»). Хотя раба обыкновенно бьют, и он легко может на основании прошлого опыта предсказать, что его будут бить, мы, исходя из морали, ожидаем, что людей не бьют без причины. Если придавать нормальному моральное значение, пропозиция рабовладельца будет относиться к угрозе, таким образом подтверждая наше ощущение, что раб принужден исполнять A. Там, где несправедливость является чем-то укоренившимся, «моральные» и «предсказательные» изначальные условия могут расходиться, вынуждая нас делать между ними выбор.
В действительности, мы можем сконструировать любое количество разных возможных изначальных условий для вынесения суждения о том, меняет ли предложение положение дел к лучшему или к худшему относительно отправной точки. Предсказание можно делать различными способами. Существуют различные «моральные» стандарты. Также есть разные способы рассмотрения того, чего желал бы тот, кто принимает предложение (реципиент). Так, расхождения среди множества возможных отправных точек могут случаться намного чаще, нам кажется на первый взгляд. Это требует от нас найти метод отбора среди возможно расходящихся изначальных услових. Нозик, к примеру, полагает, что когда «прогнозируемые» и «моральные» отправные точки расходятся, мы обращаемся к предпочтениям реципиента и опираемся на предпочитаемую им отправную точку. В случае раба, представленном выше, Нозик оправдано предполагает, что раб предпочел бы, чтобы «нормальное» значило «моральное», ведь в таком случае раб не будет побит, даже если он не выполнит A. В сравнении с этим изначальным условием, предложение (proposal) рабовладельца оказывается угрозой, а не собственно предложением (offer).
Некоторые теоретики отмечали, что то, осуществления чего желает реципиент, может отличаться как от моральных, так и от предсказываемых (predictive) изначальных условий. Например, Майкл Горр утверждает, что, если при расходящихся изначальных условиях предпочтения важны, то «неясно, почему они должны быть менее важны, когда два изначальных условия совпадают». По этой причине он отдает предпочтение концепции, согласно которой «предпочтения субъекта являются решающим фактором во всех случаях» (Gorr 1986: 398-399; см. также Rhodes 2000). Однако трудность с этим предположением состоит в том, что сформулировать, какие предпочтения будут учитываться при развитии событий. Люди могут хотеть, чтобы другие делали или не делали практически что угодно. Предположим, мы согласны, что и в моральном, и в предсказательном смысле рабочим нормально избегать увольнения, а потребителям, которые отказываются оплачивать счета за коммунальные услуги, нормально стремиться к тому, чтобы им не отключили электричество. Конечно, рабочие и потребители скорее выберут, чтобы им платили просто так и давали бесплатное электричество. В сравнении с этими изначальными условиями предложение уволить или отключить кому-то электричество приравнивается к тому, чтобы делать все возможное, чтобы привязать нежелательные последствия к некоторому (не)действию А. По критериями Горра получается, что обе эти угрозы являются принуждающими угрозами, хотя обе представляются частями обыкновенной, не-принудительной торговли, основанной на предложениях и их принятиях‹12›
Во всяком случае, сложно понять, как теория, рассматривающая изначальные условия исключительно исходя из предпочтений, могла бы не обнаруживать принуждение во множестве тех ситуаций, где наше до-теоретическое понимание принуждения отрицало бы его наличие.
Похоже, более удовлетворительный подход предлагают те, кто выступает за моральную теорию изначальных условий. Самый заметный из этих теоретиков — Алан Верхаймер, чья книга «Принуждение» стала классической и положила начало множеству исследований в этой области‹13›
Поскольку принуждают только угрозы (хотя и не все), он предлагает двустороннюю проверку того, создает ли то или иное предложение угрозу принуждения (Wertheimer 1987, в особенности гл. 2, 12, 14). Предложение создает угрозу, если делающий его демонстрирует, что если его требование будет проигнорировано, он сделает рецепиенту хуже, чем оно должно быть. (В частности, Верхаймер считает, что зачастую это лучше понимать как вопрос о том, намерен ли делающий предложение нарушить права рецепитента‹14› (Wertheimer 1987: 217)
Голого факта, что кто-то кому-то угрожает, недостаточно, чтобы утверждать, что имеет место принуждение. Угроза может быть неправомерной, будучи также тривиальной. Поэтому Верхаймер требует, чтобы выбор, к которому склоняют принуждаемого, был такой, что у него не оставалось бы никакого другого разумного варианта, кроме подчинения. Как считает Верхаймер, это также требует контекстуального, морального суждения. Некто, например, может найти поддержку, заявляя, что угроза избиения «не оставляет выбора», кроме как подписать контракт. Однако нельзя сказать того же самого о решении совершить убийство.
Подход Верхаймера развивался и отстаивался в исследованиях правового мышления в США и принятой в этой стране традиции общего права, с акцентом на таких вещах, как контракты, уголовная ответственность, сделки о признании вины, шантаж и согласие на обследование и медицинское освидетельствование. Его работа оказала влияние на многих исследователей, пытавшихся определить, что должен говорить закон о различных феноменах принуждения, и сам Вархаймер предлагал дальнейшие применения своих теорий в последующих работах, включая книгу на тему согласия на вступление в сексуальные отношения (Wertheimer 2004). Морально нагруженный подход Верхаймера и теории принуждения в целом порождают ряд трудностей для осмысления того, как возможно «оправданное принуждение» — такое, как принудительно исполнение закона (enforcement), — поскольку они склонны связывать использование принуждения с имморальными действиями. Некоторые из этих затруднений будут рассмотрены ниже в разделе 3.4.
Принуждающие предложения?
Доминирующее направление в современной теории связывает принуждение с угрозами и отрицает, что предложения (offers) могут использоваться для принуждения, однако это строгое различие двух типов предложений (proposals) вызывало немалую критику. Параллельная структура условных угроз и условных предложений заставила некоторых отрицать, что между ними существует глубокое различие. Другие заострили внимание на роли обоих в политическом и экономическом контекстах и обнаружили, что в этих более широких условиях принуждающие предложения становятся реальной возможностью. Сделки на капиталистических рынках проходят, как правило, весьма и весьма по-эксплуататорски. Правительства часто предоставляют обычное пособие на условиях удовлетворения несвязанных требований (например, поставить финансирование автомагистралей в зависимость от принятия штатами определенных законов). Учитывая мощь, которой обладают такие предложения, можно предположить, что есть много предложений, от которых нельзя разумным образом отказаться, возможно, сознавая огромное неравенство в обладании властью или имевшие место ранее исторические несправедливости между противоборствующими партиями (См., к примеру O'Neil 1991; и Berman 2001.)
Среди тех, кто утверждал, что и угрозы, и предложения могут использоваться под принуждением, наиболее заметным был Дэвид Циммерман (Zimmerman 1981; среди тех, кто утверждал, что предложения могут принуждать, были Frankfurt 1988 [1973]; Held 1972; Lyons 1975: Van De Veer 1979; Benditt 1979; Feinberg 1986; Stevens 1988; критику Циммермана, Хэлда и Стивенса см. у Alexander 1981; Bayles 1974; Swanton 1989, соответственно). Придерживаясь той теории принуждения, которая основывается на идее изначальных условий и которую можно найти у Нозика, Циммерман настаивает, что, вводя понятие изначальных условий для оценки предложения, нам следует учитывать возможность того, что делающий предложение выступает для принуждаемой стороны активной помехой в ее желании оказаться в лучшей ситуации, чем может предложить принуждающий. Так, к примеру, если человек заброшен на остров и остался без средств, и кто-то предлагает нанять его на работу за минимальную плату, хватающую лишь на поддержание жизни, то это можно рассмотреть как предложение (offer), поскольку оно улучшает его положение, предшествовавшее данному предложению. Но если человек обездолен и не может рассчитывать на лучшие условия только потому, что его наниматель старательно препятствует тому, чтобы человек покидал остров (например, препятствуя строительству лодки и возвращению на большую землю), то, считает Циммерман, такое предложение следует считать принуждением. Изначальные условия, позволяющие оценить предложение, — это то положение, в котором окажется получающий предложение в отсутствии помех со стороны делающего предложение. (В данном случае такой ситуацией будет та, в которой оказался бы островитянин, если бы он мог построить лодку и вернуться на большую землю.) Если относительно этого изначального условия предложение менее предпочтительно, то его, по мнению Циммермана, стоит расценивать как принуждение.
Принуждают ли такие предложения? Спор между теми, кто, как Циммерман, говорит, что предложения могут принуждать, и теми, кто настаивает, что принуждают только угрозы, является скорее спором о словах, нежели о реальности. Тогда как Циммерман, например, называет принудительным само предложение, то то, что выступает здесь принуждающим — это какой угодно набор средств, которые использовались или используются для того, чтобы не дать получающему предложение достичь лучшего переговорного положения. Если предлагающая сторона создала такие условия, в которых даже самые непривлекательные предложения по-прежнему остаются лучшими из имеющихся, то принуждение, если оно вообще тут есть, коренится в действиях предлагающей стороны, которые не дают получающему предложение улучшить свое положение или получить лучшее предложение где-то еще.
Циммерман полагает, что даже когда предлагающая сторона не является причиной того положения, в котором находится принимающая сторона, мы по-прежнему имеем право критиковать такие предложения. В этих случаях делающий предложение может быть виновен в эксплуатации, хотя и не в принуждении. Когда одна сторона находится в гораздо более сильной переговорной позиции, чем другая, сильная сторона иногда пользуется своим преимуществом, чтобы извлечь максимально возможную выгоду (или вообще всю выгоду), которую можно получить от сотрудничества между ними.
Так, несколько переформулируя выводы Циммермана, мы можем сохранить исключительную связь между угрозами и принуждением, говоря, что предложения, сделанные с позиции превосходящей силы в переговорах, весьма вероятно будут эксплуататорскими. И принуждение иногда применяется для того, чтобы создать или удержать чьи-то преимущества в переговорах.
Однако не все согласны с тем, что принудительность, проистекающая из значительного различия в переговорных позициях, зависит от казуального происхождения. Например, Джоан Макгрегор анализирует подобные предложения, не используя подход, базирующийся на понятии изначальных условий. Она утверждает, что «различие “лучше”/ “хуже” игнорирует властные отношения, которые имеют место при радикально несопоставимых силах торгующихся сторон» (McGregor 1988-89: 25). Чтобы оценить принудительный характер чего-либо, подобного экономическим операциям, стоит обратить внимание на отношение между силами переговаривающихся сторон. «Принуждение включает применение силы к другому; на рынке оно включает применение превосходящей торговой силы» (McGregor 1988-89: 25). По крайней мере два условия для того, чтобы переговорное положение имело достаточную силу для принуждения другой стороны, таковы: слабая сторона зависима в каком-то смысле от сильной стороны (т.е. у нее нет иных опций или потенциально заменимых партнеров), и сильная сторона может повлиять на то, будет ли причинено слабой стороне некое значительное зло (вроде лишения жизни, здоровья, безопасности) (McGregor 1988-89: 34). Если в добавок к этому сильная сторона решит воспользоваться преимуществами этих условий, то это будет не просто эксплуатацией, а принуждением. Хотя детали рассуждения Макгрегор о силе в переговорах могут вызывать трудности, ее попытка ввести измерение силы принуждающего в интерпретацию принуждения кажется полезным, но относительно малоизученным подходом.
Подходы без изначальных условий
Необходимость устанавливать изначальное условие порождена необходимостью провести различие между угрозами от предложениями, которое является центральным критерием принуждения. И угрозы, и предложения обращены к принуждаемому с намерением повлиять на ее/его поведение, и различаются относительно того, как они затрагивают то, что кажется ей/ему нормальным. Существует два основных направления, по которым некоторые теоретики расходились с теоретическим подходом «изначальных условий», предложенным Нозиком, каждое из которых включает и морализованную, и не-морализованную версию. Некоторые теоретики отходили от предложенного Нозиком теоретического подхода с изначальными условиями и делали это преимущественно двумя способами, каждый из которых может быть изложен и в морализованном, и не-морализованном виде. Вместо того, чтобы отличать угрозы и предложения от того, что является для агента нормой, мы можем увидеть в угрозах особого рода давление на волю принуждаемого. Или же мы можем не сосредотачиваться на воле принуждаемого как на «локусе принуждения» и вместо этого обратить внимание на силы, намерения и действия принуждающих. «Сосредоточенный на принуждающем» подход более направлен на то, чтобы определить отличительные свойства принудительных действиях, чем пытается отличить совершенные по принуждению действия от действий, совершенных не по принуждению.
Первый способ определить принуждающие угрозы — это обнаружить специфический способ, которым давление (pressure) может влиять на волю принуждаемого. Иногда применение угроз, обусловленных действиями агента, может повлиять не только на выбор принуждаемой стороны, но также на ее способность выбирать вообще. Под тяжестью психологического давления, перед лицом серьезной опасности или значительного ущерба, реакция людей иногда отличается от их более рациональных, продуманных желаний (или, по крайней мере, не следует из них). Гарри Франкфурт считает данный эффект требованием чего-либо принуждающим и утверждает: «Принуждающая угроза пробуждает в жертве желание [избежать наказания], настолько сильное, что оно вынуждает его совершать требуемое действие независимо от того, хочет ли он его совершить, или же считает, что ему будет разумно его совершить» (Frankfurt 1988 [1973]: 78). Франкфурт имел ряд оснований отстаивать такое сильное требование, но, скорее всего, его центральным тезисом было то, что принуждение имеет подобный подавляющий (overburdening) эффект, если оно пересиливает моральную ответственность принуждаемого за его действия (Franjfurt 1988 [1973]:75-76). Тем не менее, если кто-то трактует такое подавление как достаточное условие для принуждения, то это опять же подтверждает точку зрения, что некоторые предложения — от которых нельзя отказаться — также оказываются принудительными. Хотя тот факт, что воля Q подавлена, кажется совместимым с утверждением, что Q был подвергнут принуждению, лишь немногие помимо Франкфурта принимали подобное подавление за необходимое условие для признания наличия принуждения‹15›
За исключением случая психологического принуждения, можно утверждать, что принуждение включает навязывание мнения, которое никто не может разумным образом отвергнуть. Некоторые пытались описать подобные ситуации, не редуцируя их ни к психологической предопределенности, ни к имплицитному сравнению изначальных условий. К примеру, Марк Фоулер утверждает, что «принуждение обычно включает на первый взгляд имморальное наложение практических императивов путем угроз» (Fowler 1982: 330). Хотя этот подход стоит дополнить дальнейшими деталями (включая, возможно, обращение к изначальному условию, чтобы отличить угрозы от предложений), его принципиальный вклад состоит в том, что он опирается на «практические императивы». Фоулер полагает, что нам следует рассматривать принуждение во взаимосвязи с нашим пониманием работы практического разума. Когда мы говорим, что принуждение не оставляет принуждаемому выбора, мы не обязательно подразумеваем, что принуждаемый действительно не может выбирать, но что для принуждаемого выбрать противоположное тому, что требует принуждающий, означало бы пойти против практического разума (Fowler 1982: 331).
Нормативный подход, которому отдает предпочтение Фоулер, связывает этот критерий с кантовским пониманием автономии и предполагает, что понять, имеем ли мы дело с принуждающей угрозой, можно путем ответа на вопрос, нарушает ли она автономию принуждаемого. Оказывается, это приводит к несоответствию между нашим до-теоретическим пониманием принуждения и удовлетворяющим описанным Фоулером условиям: например, подавая кому-то ложный сигнал «тревоги», мы бесспорно нарушаем его/ее автономию, но, как кажется, это отличается от принуждения. В любом случае, если существует способ осмыслить понятие наложения практического императива, это может принести пользу для концепции принуждения.
Джоел Фейнберг определяет принуждение, связывая его с особым уровнем или типом давления, оказываемого на волю принуждаемого, но не подводит давление под нормативное суждение. Его исследование подходит для тех случаев, где принуждающий стремится добиться от принуждаемого знака «согласия» на некоторые пагубные или опасные действия, но это можно с легкостью обобщить до иных типов принужденных действий. Он начинает свое исследование с того, что предлагает полезное описание роли принуждающего, оговаривая, что принуждающий:
угрожает «произвести некоторые последствия или не помешать произойти некоторым последствиям, которые принуждаемый находит непривлекательными»; и
«приводит некоторые доказательства действительности угрозы»; и
«активно вмешивался в поле возможностей [принуждаемого], чтобы ими манипулировать; в частности, он может плотно закрыть конъюнктивный вариант, который содержит неповиновение [принуждаемого] требованиям и избегание неблагоприятных угрожающих последствий‹16›» (Feinberg 1986: 198)
Эти оговорки являются ценными дополнениями к подходу в стиле Нозика, поскольку они требуют от принуждающего продемонстрировать свою власть и активно применять ее, чтобы создать ситуацию, в которой окажется принуждаемый, в частности не давая ему/ей найти путь избежать того выбора, к которому его принуждают‹17›
Основной массив написанного Фейнбергом посвящен, тем не менее, вопросу о том, как принуждающие предложения могут оказывать давление на волю принуждаемого: давление если и не непреодолимое, то по крайней мере достаточно сильное, чтобы сделать выбор принуждаемого несвободным. Это исследование не опирается на изначальное условие, поскольку последнее делает суждение принуждаемого о пугающем, нежелательном и довлеющем характере угрозы ключевым критерием для определения того, несет ли она принуждение. Фейнберг предлагает детально рассмотреть, как можно сравнивать разное давление, имеющее место в ситуации, когда принуждающая сторона сталкивается с разного рода требованиями, смешанными с угрозами, и предлагает, таким образом, способы подсчета «всего бремени принуждения», которое угроза создает для принуждаемого.
Подход Фейнберга приводит к ряду очевидно проблемных результатов.
С одной стороны, этот подход позволит сделать вывод, что крайне заманчивые предложения являются принуждающими, если они создают давление, похожее на то, что обыкновенно ассоциируется с принуждающими угрозами; единственное, что, как кажется, принимается в расчет, так это то, насколько сильно́ испытываемое человеком давление, [склоняющее] его к действию. В рамках этого подхода те, кто имеет нестандартные предпочтения или страхи (например, жуткий страх получить хлопок по спине), будут рассматриваться как «принужденные» угрозами совершить то, что, объективно говоря, является чем-то вполне обыкновенным (Feinberg 1986: 212).
Другой способ понимания принуждения уводит нас от сосредоточения на воздействии, которое оно оказывает на принуждаемого. Некоторые подходы — такие как упомянутый выше подход МакГрегора — усматривают принуждение в том, что принуждающий пользуется преимуществами определенных различий во власти между принуждающим и принуждаемым. Другие исследователи связывают принуждение с созданием угроз, но при этом стремятся различить угрозы и предложения, не прибегая к изначальному условию, и вместо этого рассматривают качества или свойства принуждающей стороны и ее деятельность. Митчел Берман, следуя за Винитом Хаксаром, выступал за подход, который предполагает, что путем имморальных принуждающих угроз предлагается сделать то, что, будучи сделанным, будет имморальным (См. Berman 2002; Haksar 1976.) (Берман, как кажется, не предлагает определения принуждения per se, а только неправомерного принуждения.) Грант Ламонд вместо этого фокусируется на целенаправленной попытке принуждающего применить давление, чтобы изменить действия принуждаемой стороны. Давление в этом случае происходит от намерения умышленно отодвинуть интересы принуждаемого на задний план. (См. Lamond 1996 и 2000.) Поскольку в своих трактовках принуждения МакГрегор, Берман и Ламонд обращаются к действиям и интенциям принуждающего, им нет необходимости отличать принуждающие предложения от остальных предложений, основываясь на конкретных следствиях, которые они имеют для принуждаемого. (По этой причине они также могут отрицать условие «успеха» в принуждении, имеющееся у Нозика и в большинстве последующих концепций принуждения.)
Скотт Андерсон, опираясь на некоторые идеи Дж. Р. Лукаса (Lucas 1966), берет другой вектор и связывает принуждение с использованием некоторыми агентами имеющейся у них способности навязывать другому свои решения о том, что тот должен или не должен сделать, «где ощущение принудительной силы воплощено в использовании силы, насилия и угрозы их применения для сдерживания, обездвиживания, нанесения вреда или отнятия у агента способности действовать (Anderson 2010: 6). Андерсон настаивает, что принуждающий приступает к действиям или чтобы обозначить различие в объеме власти между ним и принуждаемым (к примеру, берясь за оружие), или иначе очерчивая некое имеющееся различие между агентами в отношении типов или классов, к которым относятся принуждающий и принуждаемый (например, полицейский и гражданин, соответственно). Этот подход, основывающийся на модели принудительного исполнения (enforcement approach), предполагает, что применения этих видов власти являются особыми отличительными свойствами, и поэтому могут быть использованы для того, чтобы определить продолжительные угрозы (такие, как криминальное право) как принуждающие, даже если трудно определить конкретные действия, которые они изменяют.
Применение идей о принуждении
Хотя может показаться, что некоторые исследования принуждения преимущественно нацелены на концептуальное прояснение, теоретики принуждения все чаще пытаются дать ответ на вопросы, которые имеют практическую значимость для этики, судебных решений, политической теории, теории права и социальной политики. Некоторые наиболее общие следствия из утверждений о принуждении исследуются ниже. Четыре подраздела (об ответственности в принуждении, неправомерности принуждения, его последствиях для свободы и политических импликациях) накладываются друг на друга, поэтому деление разделов носит условный характер. Время от времени в этом разделении на первый план выступает тот или иной аспект темы, что не значит, что эти аспекты можно легко отделить или изолировать от других аспектов того же вопроса.
Влияние принуждения на ответственность принуждаемого
Нет единой теории, с которой все были бы согласны и которая бы объясняла, когда агент несет или не несет ответственность за происходящее в мире. Суждения об ответственности нормативны и могут зависеть от других нормативных фактов, присущих конкретному типу действия или практики. К примеру, факты, которые могут ограничить чью-то ответственность за подписание или нарушение контракта, окажутся неспособны ограничить ответственность за совершенное убийство. Поэтому значение принуждения или чего-то близкого ему (лишения свободы, вымогательства) может отличаться в зависимости от рода действий, ради которых агент пытается ограничить чью-то ответственность, или от морального контекста действия. Тем не менее, несколько центральных случаев и некоторые общие тенденции можно привести более-менее уверенно.
Принято усматривать два рода оснований, которые могут уменьшать или смягчать ответственность агента, оказавшегося под принуждением. В первой группе случаев человека прощают за его действия; во второй его действия оправдывают. О точном понимании этого различия постоянно ведутся споры, но один из способов понять его основные черты состоит в следующем. Человек бывает целиком или частично прощен за поступок, к которому он был принужден, если он (или его последствия) находился за пределами контроля или не мог быть предотвращен, или если этот поступок (или его последствия) были непреднамеренны. Последнее условие может достигаться, если, например, некто принужден согласиться намеренно что-то сделать (например, сесть за руль), но, вместе с этим, непреднамеренно совершает что-то еще (к примеру, помогает убийце сбежать). Человека оправдывают за то, что он поддался принуждению, когда действие (или его последствия) было необходимо по моральным причинам, или морально допустимо даже при предсказуемых обстоятельствах нанесения вреда от этого действия другим. (Одни из наиболее очевидных так оправдываемых действий — те, что совершаются, чтобы обезвредить нападающего в целях самозащиты или защиты других.) Однако ни один из типов оправданий нельзя с легкостью связать с новейшими теориями принуждения, которые могут применяться для определения ответственности агента за действия, совершенные под принуждением.
Когда агент встречается с угрозой, одно из оснований, по которому его/ее согласие может быть извинительно, состоит в том, что его/ее воля была полностью сломлена нависшей угрозой. Подобно другим «неспособностям», данная «неспособность» может отражаться на его/ее ответственности за те действия, которые были совершены ввиду абсолютной невозможности действовать как-то иначе. (Такое извинение может навести на вопрос о том, каким образом агент оказался столь уязвим, что его способность действовать была до такой степени уязвлена. Возможно, в таких случаях он/она отвечает за слабость своего характера, хотя и не за свое действие.) Извинение также может получить поступок, совершенный принуждаемым лицом в неведении, или поступок, вред от которого был несущественен (такие оправдания возможны вне зависимости от того, было ли принуждение). Но поскольку многие люди способны обдуманно и рационально реагировать на угрозы принуждения, представляется, что большинство случаев приуменьшения ответственности из-за принуждения относятся скорее к оправданию, чем к извинению.
В некоторых теориях принуждения к ситуации принуждаемого применяется «моральный тест»: ответственности за совершенное под влиянием принуждения действие можно избежать, если предложение принуждающего таково, что каждый «имеет право уступить предложению [принуждающего], а затем избежать обычных моральных и юридических последствий [своего] действия» (Wertheimer 1987: 267). Такой тест может быть лучшим из всего созданного теоретиками, но для начала он требует теории, отдельной от той, которая объясняет принуждающую силу предложений (К примеру, теория Вертхаймера имеет два «острия»: первое определяет, было ли конкретное предложение принуждением; второе определяет, в самом ли деле принуждающее предложение кого-то принуждает в том смысле, что влияет на его ответственность за то, что он уступил в ответ на принуждение). Хотя существуют некоторые специфически моральные или нормативные тесты, определяющие возможную ответственность за совершенное под принуждением действие, отнюдь не достоверно, что какой-то из них будет применим более чем в одном разряде случаев‹18›
Один из тестов ответственности, который можно предложить, ограничит меру ответственности того, кто действует под принуждением, если он делает это ради того, чтобы минимизировать общий вред (ссылаясь на принцип «наименьшего зла»). Так, например, мы можем отрицать, что человек ответственен за решение навредить кому-то, чтобы не быть убитым, но оставляем за ним/ней ответственность, если он/она решается на убийство, чтобы не понести урона самому/самой. Хотя этот принцип интуитивно удовлетворителен, мы точно не примем его в других контекстах, не относящихся к принуждению. Например, по-прежнему недопустимо отнимать у человека почку, чтобы спасти жизнь другому. Хотя мы могли бы добавить к такой проверке условия, с которыми уменьшить ответственность стало бы труднее, и тем самым сделать их более комплиментарными нашим интуициям, остается неясным, есть ли какой-то четкий моральный принцип, применимый ко всякому случаю.
Вместо моральной проверки можно предложить психологический тест, по которому уступка в отношении требований принуждающего, наносящая в конечном итоге вред другим, оказывается оправданной, если совокупная ценность данного действия оборачивается значительным благом для принуждаемого. Грубо говоря, в этом и состоит подход Фейнберга, продолженный Мюрреем и Дадриком (См. Feinberg 1986; и Murray and Dudrick 1995.) Идея такого мерила состоит в том, чтобы признать, что бывает давление на волю, которое оказывается невыносимым, и при этом не предполагать, что воля принуждаемого была настолько подавлена, что совершить выбор было буквально невозможно. Трудность этого подхода состоит в том, что действие оказывается оправданным ввиду лишь степени силы приманки (inducement). Есть случаи (помимо принуждения), которые могут создавать весьма сильный соблазн причинить другим вред; стоит лишь взглянуть на то, на что могут пойти люди ради славы, богатства или любви. Поскольку большинство едва ли согласится, что даже крайне соблазнительные предложения (offers) снижают ответственность того, кто их принимает, представляется, что соблазняющей силы приманки самой по себе недостаточно для того, чтобы объяснить наши суждения об ответственности. Хотя мы могли бы добавить больше условий, чтобы свести ограничивающий эффект исключительно к ответственности за угрозы, но не за предложения, тем не менее, если оправдание заключается в давлении на волю, это было бы похоже на то, что падкость на искушение может быть так же оправдана, как и уживчивость с угрозой смерти. (Заметьте, некоторые заманчивые предложения прямо связаны с жизнью или смертью.)
Иногда требуется закон, чтобы вынести суждения о действиях, совершенных по необходимости в крайних обстоятельствах. Иногда люди вредят чужим интересам ради того, чтобы спасти себя или других от смерти или уберечь от серьезных травм, которые могут случиться по причинам, лежащим вне их контроля‹19›
Однако принуждение ставит ряд более сложных проблем перед суждениями об ответственности, чем случаи естественной необходимости. Принуждение включает стратегическое и динамическое взаимодействие между двумя агентами, — принуждающим и принуждаемым, — и стандарт, применяемый для измерения ответственности принуждаемого, действовавшего под принуждением, может влиять на эту стратегическую ситуацию. Принципы, по которым мы судим об ответственности принуждаемого за его уступку принуждению, могут повлиять на рациональность или продуктивность использования принуждения со стороны возможного принуждающего. (Для сравнения, в случае несчастья и природных катастроф ситуация оказывается проще, потому что поведение погоды, в отличие от поведения принуждающего, не зависит от стимулов, которыми руководствуются те, кто мог бы оказаться принужденным их силой.) Если мы склонны снижать ответственность принуждаемых, то уступка принуждению окажется более разумной опцией; если же мы, наоборот, отказывается приуменьшать ответственность за нанесенный в результате принуждения урон, принуждаемые будут, возможно, куда реже уступать угрозам принуждающих. Но если (возможный) принуждающий знает, что потенциальная жертва не будет поддаваться на его угрозы, принуждение станет менее продуктивным или разумным средством. Поэтому, выбирая принцип, который оправдает принуждаемого, уступающего принуждению, нужно принимать во внимание, что этот принцип может изменить динамику взаимоотношений между принуждающим и принуждаемым так, что в результате это отразиться на рациональности и эффективности применения принуждения.
Однако бывают случаи, в которых принуждение отражается на ответственности агента за то, что случается в результате принуждения, и в которых перечисленные выше трудности не возникают. Если, подобно некоторым ранее рассмотренным идеям о принуждении, мы рассматриваем прямые физические вмешательства как одно из средств принуждения, то в некоторых случаях сравнительно легко увидеть, как принуждение может отражаться на способности индивида отвечать за совершенное или не совершенное по принуждению. Если кто-то насильно cкован, обездвижен или лишен необходимых средств для достижения цели, то довольно очевидно, почему он может быть прощен за то, что не поступил как-то иначе (См. Anderson 2010). Полагаясь на принцип «должен значит можешь», можно сказать, что в случае, если человек нечто не может сделать, эта невозможность является оправданием его провала. Похожие вопросы могут возникать в связи с тем, каким образом некто теряет дееспособность; к примеру, если кто-то не может заботиться о своем ребенке и ищет оправдание в том, что он оказался в тюрьме, мы вправе — перед тем, как извинить его — спросить, почему он оказался в тюрьме. Тем не менее бывают случаи, в которых ответы на такие вопросы показали бы, что принуждаемый оказался в заключении не по своей вине и, следовательно, не должен отвечать за те вещи, которые вынудил его сделать принуждающий.
Точно так же стоит отметить, что есть случаи, в которых принуждающий не только может быть извинен за уступку перед лицом угрозы, но и оправдан, даже если он уступил спокойно и сознательно. Такое оправдание может быть получено, когда принуждающий создал такую ситуацию, где воля принужденного перестала иметь значение для результата. Например, если охранник может вывести посетителя из бара, независимо от его желания, то, если охранник угрожает сделать это, уход из бара посетителя в ответ на такую угрозу может быть понят как не более добровольный, чем если бы его/ее увели силой. Когда у принуждающего есть власть привести свое решение в исполнение, независимо от желания другой стороны, это может оправдать нежелание принуждаемого предпринимать бесполезные усилия‹20›
Противоправность принуждения
В следующем разделе мы рассмотрим, каким образом принуждение ущемляет свободу — из-за чего по праву возникает ряд очевидных этических следствий. Так что рассмотрение такого рода этических трудностей будет отложено до следующего раздела. Настоящий раздел рассматривает более основополагающие вопросы о том, является ли принуждение неправомерным по своей сути, и в чем может еще состоять его неправомерность, помимо его влияния на свободу или автономию.
Вопрос о сущностной неправильности принуждения вызвал значительные дебаты. Ответы на этот вопрос разделились примерно на три категории:
принуждение неправомерно по сути; оно неправомерно prima facie или pro tanto, хотя может быть оправдано дальнейшими фактами; по сути, оно нейтрально с моральной точки зрения, хотя некоторые случаи принуждения могут быть неправомерны ввиду сопутствующих им особым фактам. Различия в понимании того, почему принуждение неправомерно, помогут объяснить различие в этих позициях.
Скорее всего, кто-то примет первый подход, согласно которому принуждение по сути неправильно, если он определяет принуждение как своего рода нарушение или угрозу нарушения прав принуждаемого. Похоже, что такой взгляд разделяет Вертхеймер, как и Чейни Райан в своих аргументах за нормативную концепцию принуждения. (См. Wertheimer 1987; Ryan 1980.) Эта тесная связь между принуждением и имморальным действием отвечает ряду наших интуиций о принуждении и отражает многое из того, что присутствует в обыденном языке. Эта связь предлагает более тонкое разделение между принуждающей и не-принуждающей деятельностью, которую можно описать иначе: если деятельность морально безупречна, она ipso facto не является принуждающей. Разумеется, если определение принуждения подразумевает наличие предшествующих моральных представлений, то тот, кто судит о принуждении, должен судить о нем надежно, чтобы уметь обоснованно определить [наличие] принуждения. Но это вносит корректив в данный взгляд на неправомерность принуждения: есть ситуации, в которых принудительность совершаемого действия предстает очевидной, хотя убедиться в ее правомерности или неправомерности бывает трудно или невозможно (этот корректив тем более применим к следующему предложению, а именно, что принуждение is prima facie или pro tanto неправомерно). Поэтому некоторые авторы (напр., Zimmerman 2002) выступают против того, чтобы выносить суждения о принуждении, полагаясь на некие предшествующие моральные представления. Взгляд Вертхеймера/Райана также создает категорическое различие между разными возможными применениями той же техники (а также теми, кто ее применяет): если мафия угрожает уничтожить вашу собственность, если вы не заплатите ей деньги за ее патронаж, такая угроза будет считаться принудительной; но если справедливое хорошо управляемое государство грозит конфискацией имущества за неуплату вами налогов, то угроза эта, согласно данной точке зрения, вероятно, не является принуждающей. Некоторые произрастающие из этой импликации трудности обсуждаются в следующем разделе.
Второй взгляд, согласно которому принуждение имморально prima facie или pro tanto, является, вероятно, наиболее популярным. И все же сложно найти и описать фактор, который будет достаточным для объяснения неправомерность принуждения, когда ему не был дан отпор, избегая при этом неправильной классификации случаев. Скажем о двух недавние попытки дать такое определение.
Одно из предположений гласит, что именно неправомерность действия, которым угрожают, делает использование такой угрозы неправомерным самим по себе. Митчелл Берман настаивает, что когда принуждающий угрожает чем-то, правомерность или неправомерность применения угрозы принуждения будет зависеть от того, будет ли для этого агента правомерно или неправомерно осуществить эту угрозу (Berman 2002). Таким образом, то понимание неправомерности принуждения, которое предлагает Берман, частично опирается на принцип вмешательства, который гласит, что если неправильно делать А, то неправильно и грозить совершением А, и наоборот. Но хотя этот принцип, по-видимому, подходит для многих конкретных случаев, нет уверенности, что он будет подходить для всех. По крайней мере иногда оказывается уместным пригрозить чем-то, совершение чего было бы неправомерным ( чем-то подобным иногда считают ядерное сдерживание; см. раздел 4.1 ниже). Также иногда может быть неправомерно грозить тем, совершение чего было бы правильным (иногда считает, то шантаж и завышение цен относится к таким случаям). В целом, условная угроза приводит к значительному этическому затруднению, поскольку угроза может не сводиться к чему-то большему, чем к моменту коммуникации, хотя в некоторых случаях такая коммуникация равносильна акту значительного насилия и имеет похожие следствия. На самом деле, условная угроза зачастую вызывает больше затруднений и является более проблематичной с точки зрения этики, чем безусловная угроза‹21›
К сожалению, этические сложности, заключенные в условной угрозе, по сей день теми оставались мало исследованными теми, кто более прицельно сосредоточен на принуждении‹22›(Критику подхода Бермана и альтернативный ему подход можно найти у Андерсона (см. Anderson 2011.))
Согласно второму предположению, в намерении принуждаеющего в отношении принуждаемого есть нечто такое, что часто делает принуждение проблематичным. Грант Ламонд считает, что неправомерность неправомерного принуждения проистекает из того, что оно включает «предложение умышленно поставить другого в невыгодное положение» (Lamond 2000: 49). «Очевидная неправильность [принудительных условных] угроз состоит в предложении совершить действие, поскольку оно нежелательно для принимающего предложение, т.е. поскольку он не хочет, чтобы оно свершилось» (Lamond 1996: 228). Следовательно, намерение принуждающего навредить принуждаемому или создать для него неудобства (или предложить это сделать) и есть то, что взаливает на принуждение особый груз оправдания (хотя Ламонд не предполагает, что такие оправдания трудно найти). Но также неясно, намерен ли человек причинить другому вред, когда он об этом заявлет (ведь он может блефовать‹23›)
Более того, также неясно, все ли намерения причинить вред даже prima facie нуждаются в оправдании. Пока мы не примем, что всякая деятельность на prima facie неоправданна, покуда у нее нет конкретных оправданий, мы вынуждены будем доказывать, что причинение вреда другому лицу есть нечто, что всегда, чтобы считаться оправданным, должно устранить некое препятствие. Естественно, некоторые виды причиняемого вреда требуют специальных оправданий, но некоторые нет. Кто-то мог бы, к примеру, желать насолить своему недругу, посадив его на обеде между двумя тоскливыми занудами. Будучи, возможно, не самым приятным, это действие (или угроза этого действия), кажется, не требует особенного морального оправдания, чтобы считаться этически допустимым. Мы могли бы сказать, что до тех пор, пока некто уважает права других (перечень которых может пониматься сколь угодно широко), ему не нужны особенные оправдания, действовать по отношению к ним так, как он того желает. И точно ни у кого нет такого права, чтобы никто никогда не действовал бы ему во вред. Если это верно, простого намерения принести кому-то вред — возможно, условный — недостаточно, чтобы считать это нарушением прав.
Этика принуждения, если понимать ее как набор морально-нейтральных средств, служащих целям принуждающего, мало исследована в современной литературе, по крайней мере как отдельная тема. Конечно, это правда, что множество способов принудить кого-то опасны, наносят ущерб и (будучи используемыми частными лицами) незаконны. Но тот факт, что принуждение есть необходимое средство даже для справедливых правительств в хорошо управляемых обществах, дает определенные основания предполагать, что этика принуждения преимущественно зависит от набора отдельных факторов, связанных с ее использованием, чем от присущих ей качеств. Факторы эти касаются следующего: почему, кем и как применяется принуждение, против кого, при каких обстоятельствах и какие иные средства были возможны вместо этого. Принуждение не является повседневным средством. Впрочем, остается неясно, почему мы должны говорить, что оно имморально ввиду своих внутренних свойств (intrinsically) (даже prima facie или pro tanto), вместо того, чтобы просто сказать, что принуждение является очень могущественным средством, которым легко злоупотребить и которое всегда при его использовании требует этического осмысления.
Принуждение и свобода
Говорят, что в одних случаях выбор совершается свободно, а других — несвободно, или недобровольно. Обобщая, можно сказать, что люди могут жить более или менее свободно, в зависимости от таких фактов, как объем и качество открытых перед ними возможностей выбора, степень защищенности от вмешательства извне со стороны могущественных агентов (parties) и степени, в какой они могут следовать целям, имеющим для них большое значение. Автономия представляется особым типом свободы, который, поскольку он отличен от вышеназванных типов, относится к внутреннему состоянию упорядоченного самоуправления. Принуждение считается враждебным по крайней мере к некоторым их этих типов свободы, возможно, ко всем, и также имеет пагубное воздействие на тот особенный род свободы, который мы называем автономией.
Если принуждение использует прямую силу против тела человека, то достаточно ясно, как оно может ограничивать большинство видов свободы (хотя и не обязательно ясно то, как оно затрагивает автономию). Но как давно отмечал Фома Аквинский, неясно, почему принуждение, имеющее форму угрозы, должно мыслиться как враждебное свободе. Крейг Карр формулирует эту проблему следующим образом: «если хотя бы некоторые примеры принуждения содержат выбор, и если способность сделать свой собственный выбор составляет часть того, что зовется свободой, то в каком смысле (если такой есть) принуждение противоположно свободе?» (Carr 1988: 59). Очевидно, принуждение во многих случаях делает выбор человека менее привлекательным, чем он был бы в другом случае, или снижает качество доступных вариантов. Однако довольно странно было бы говорить, что некто менее свободен только потому, что его выбор стал менее привлекателен, или что некоторые возможности для действия стали ему недоступны. Можно ли придать какой-либо смысл утверждению, что некто менее свободен из-за принуждения?
Начнем с того, что рассмотрим тот тип свободы, который ассоциируется с широтой и качеством доступных для человека действий. Идею этой свободы можно интуитивно понять через сравнение положения заключенного с положением того, кто находится вне тюрьмы. Заключенный на 24 часа в клетку имеет меньше свободы, чем тот, кто может свободно передвигаться куда бы он ни захотел, взаимодействовать с остальными различными способами и выбирать из широкого разнообразия занятий (по меньшей мере, если у него/нее есть достаточно средств овладеть ими). Нас тянет сказать, что выбор действий у незаключенного богаче и лучше. Но на пути такого сравнения появляются некоторые трудности, мешающие ему быть точным. Нам недостает точного способа перечисления действий, а это кажется необходимым, если мы намерены посчитать их или сравнить их число. Имея огромное множество потенциальных возможных действий, заключенному так же, как и незаключенному, в один момент доступен только малый их перечень (Есть вероятность, что заключенный может делать нечто такое, чего не может делать незаключенный‹24›
Поэтому нам может быть полезнее сосредоточиться на том, что находящемуся на свободе доступны действия, которые обладают большим качеством и более желанны. Оказаться заключенным в тюремную камеру означает — по крайней мере отчасти — лишиться свободы, поскольку заключение отнимает средства, необходимые, чтобы осуществить многие обыкновенно желанные действия. Впрочем, у нас нет подходящих инструментов, чтобы определить ценность разных действий для разных людей. Поэтому оказывается трудно надежно и обоснованно провести даже такое сравнение‹25›
В случае некоторых угроз межличностное сравнение кажется излишним. Когда человек с ружьем заявляет, что заберет у кого-то или деньги, или жизнь, последний от способности обладания обеими вещами переходит к неспособности обладать ни одной. То, что ранее было совозможными благами, стало несовозможными, а более ценный вариант (т.е., сохранение денег) становится недоступен. Свобода, таким образом, уменьшается.
Если прицельно рассматривать ситуацию принуждаемого, такой анализ кажется весьма разумным. Тем не менее, возможно, что некоторые общие угрозы, адресуемые группе людей, могут повысить, а не снизить свободу принадлежащих группе индивидов. Рассмотрим угрозы, являющиеся составной частью законов, направленных против воровства. Государство может грозить ворам тюрьмой, после чего (допустим) станет невозможно одновременно украсть и сохранить свободу. В то же время надёжная система частной собственности будет зависеть от существования таких законов, которые бы запрещали самовластное присвоение не принадлежащих человеку вещей. Если такой режим действительно обладает ценностью, то угроза ареста за воровство может как уменьшать свободу народа в отношении одних действий (делая воровство несовместимым с свободным существованием), так и поддерживать ее относительно прочих (из-за возможности приобретать, использовать и продавать частную собственность). Если воспользоваться другим примером, стоит обратить внимание на то, что заключение с другими договоров, обеспеченных правовой санкцией, существенно увеличивает способность извлекать выгоду из работы в кооперации, но эта способность основывается на том факте, что заключающие договор стороны отказываются от некоторых совозможных выгод (к примеру, от получения благ другого при невыполнении собственной половины сделки).
Крейг Карр полагает, что мы можем разрешить трудности, обратив внимание на то, что множество общественных взаимодействий регулируются конвенциями, которые возникают из конкретных видов межличностных взаимоотношений. Так, к примеру, спортивной командой руководит тренер, который может «грозить» вывести игрока из игры, если тот не будет придерживаться геймплана. Но эта угроза, как мы можем заметить, не отнимает у игрока свободу в каком бы то ни было значимом смысле (Carr 1988: 62). Принимая во внимание природу спортивных занятий, роли игроков и тренеров и необходимость организации для командной игры и спорта вообще, Карр предполагает, что когда подобные угрозы дозволяются соответствующими конвенциями, у нас нет основания полагать, что они подавляют свободу. Во многих случаях может быть трудно решить, какие конвенции подходят и работают в данной ситуации, но, похоже, для прояснения взаимоотношения угроз и свободы в контексте конвенций стоит обратить внимание на предложенный Карром анализ.
Есть и другой способ мыслить свободу — политический. У некоторых (напр., Pettit 1996) этот способ ассоциируется с гражданским республиканизмом, где свобода тождественна не-доминированию одного агента над другим. Один человек доминирует над другим, если он всегда может вмешаться (step in) и воздействовать своей волей на его решение (даже если доминирующая сторона редко находит это полезным). Свобода от доминирования отличается от предыдущего вида свободы в том, что перед тем, над кем доминируют, фактически может быть открыта масса ценных возможностей. Человек несвободен в том смысле, что он всегда осуществляет свой выбор с оглядкой на благосклонность тех, кто находится в позиции, позволяющей им вмешаться в его выбор. И, наоборот, тому, над кем никто не доминирует, все равно может не доставать (по разным причинам) многих разных ценных возможностей, которые могут быть доступны тому, кто находится под властью других (например, детямподросткам богатых родителей или заключенным, которым обеспечена минимальная безопасность).
Принуждение есть метод, с помощью которого могущественный агент может осуществлять и удерживать свое господство над другим. Когда у человека есть власть, необходимая для того, чтобы убедительным образом угрожать другим, он может использовать ее для навязывания своей воли в отношении многих вариантов выбора (Anderson 2010). Такая власть способна давать возможность доминировать над другими, — как это описывает Петит, — поскольку она может применяться произвольно, чтобы изменять или ограничивать деятельность других людей, даже если по факту она редко применяется. Если угрозы человека весомы и если выполнение его требований само по себе не разрушительно, человек может использовать свою власть для влияния на действия других, однако при этом он может редко прибегать к реализации своей власти. Дурные правительства и мафии могут удерживать контроль над большим населением посредством угроз и устрашения, при этом редко напрямую вмешиваясь в деятельность людей. Если чьи-то власть и желания хорошо известны по своим прежним проявлениям, он может, не угрожая открыто, по-прежнему добиваться своего.
Это влечет за собой вопрос о том, требует ли или предполагает ли использование принуждения, что принуждающий находится в доминирующей позиции над принуждаемым. Хотя большинство, скорее всего, согласится с тем, что принуждать можно и без подобного доминирования, этот сценарий может быть более редким и более замысловатым, чем кажется на первый взгляд. Действительно, практически любой может адресовать другому высказывание, которое будет иметь форму угрозы, и также верно, что многие агенты могут озвучивать убедительные угрозы, оказывающиеся на поверку блефом, — то есть могут угрожать, не располагая заявленной властью. Тем не менее возможность и действенность угроз в целом зависит от того, могут ли такие угрозы успешно применяться — применяться так, чтобы принуждающий не оказался в итоге вынужден заплатить за эту цену, сопоставимую с той, которую заплатит принуждаемый. Для возможности принуждения также кажется существенным находиться в позиции, с которой можно нанести ущерб интересам принуждаемого, превышающий обыкновенный уровень. В противном случае мы могли бы сказать, что некто использует принуждение, когда, например, угрожает уволиться с низкооплачиваемой работы в сфере быстрого питания в случае, если работодатель не поднимает зарплату до уровня той, которую предлагают в кафе через дорогу. Более того, принуждающим часто приходится изобретать и приспосабливать свои угрозы к конкретным формам уязвимости принуждаемых. Гидеон Йаффе доходчиво описал этот аспект отношений между властью принуждающего и способностью воздействовать с помощью нее на свободу другого:
Ключом к объяснению силы принуждения, отнимающей свободу, как правило, является тот факт, что принуждающие не только принуждают своих жертв к послушанию, но и отслеживают это послушание … [П]ринуждающего редко заботят те или иные дурные последствия, которыми он угрожает; с некоторыми ограничениями он готов к любым последствиям, которые заставили бы жертву подчиниться. (Yaffe 2003)
Если принуждающему не достает для этого власти, в случае неповинения с его стороны будет иррационально проводить в действие свою угрозу, и, следовательно, для принуждаемого будет иррационально поддаваться угрозе. Так, до тех пор, пока принуждающий или принуждаемый действует иррационально (при том, что один считает, что другой действует иррационально), или до тех пор, пока один остается в заблуждении касательно относительной власти (или рациональности) другого, чтобы быть рациональной, полезной техникой, принуждение требует весьма значительного неравенства во власти между принуждающим и принуждаемым. Так что даже если справедливое государство не доминирует над своими гражданами в петтитовском смысле осуществления над ними произвольной власти, оно все равно должно быть способно на такое доминирование, если оно хочет сохранить порядок перед лицом тех, кто в противном случае отрицал бы его приказы.
Политическая/правовая теория и принуждение
Как было показано в историческом разделе этой статьи, отношения между государством, правом и принуждением были предметом широкой дискуссии на протяжении истории западной философии. Многие из наиболее трудных вопросов в большей степени относятся к размышлениям о государстве и праве, чем о принуждении‹26›
Тем не менее некоторые теоретики из своих теоретических размышлений о принуждении попытались извлечь довольно ревизионистские уроки для политики и права. Их размышления достойны того, чтобы их рассмотреть, поскольку сделанные ими выводы могут изменить наше понимание природы принуждения и его места в праве и политике.
Как было отмечено выше, есть несколько подходов к принуждению, которые настаивают, что принуждение — это нарушение права или что оно имеет какой-либо другой нормативный изъян. Среди них наиболее заметный представлен в работе Принуждение Алана Вертхаймера. Но если принуждение — это обязательно имморальное действие, то было бы трудно объяснить, как акт принуждения может получить оправдание‹27›
Помимо прочего, этот взгляд находится в явном противоречии с классическим подходом к принуждению, согласно которому государства парадигматически, с необходимостью являются агентами принуждения. Как указывал Уильям Эдмондсон (и как указывал Нозик, Nozick 1969), если государство имеет право наказывать преступников, то, когда оно угрожает применить это право, оно не угрожает сделать им хуже, чем должно быть (Edmundson 1995 и 1998, гл. 4–6). Следовательно, в русле подхода к принуждению, который настаивает на его имморальности, применение полицейской власти со стороны государства для исполнения закона не будет считаться принудительным.
Верно ли это? Ответ будет зависеть, во-первых, от того, принимаем ли мы моральный анализ принуждения; если же предпочтение отдается не-моральному подходу к принуждению, тогда основания для этого утверждения становятся намного более зыбкими. Кажется, это будет зависеть еще от того, принимает ли моральная оценка действий принуждающего во внимание все обстоятельства или она является pro tanto. В то время как использование принуждения со стороны государства, принимая во внимание все обстоятельства, может быть благим с точки зрения морали, угроза посадить кого-то в тюрьму может считаться pro tanto дурной, точно так же, как, например, дурным не является выплата вознаграждения. Если это так, то даже в рамках морального подхода мы может предположить, что и государственному принуждению необходимо особое оправдание. Вертхайемер, Хаксар, Ламонд и Обердик, к примеру, не видели проблемы в том, чтобы признать существование «оправданного принуждения», то есть действий, которые считались бы принудительными согласно моральной теории принуждения (отталкивается ли она от идеи изначального условия или нет), но которые в конечном итоге оказывались бы оправданными ввиду других соображений (Oberdiek 1976; Haksar 1976; Wertheimer 1987; and Lamond 2000 and 2001). Впрочем, Эдмондсон утверждает, что такой взгляд ни на чем не основан и правильно понятая моральная теория в нем не нуждается. Если он прав, то использование техник, которые обычно считаются техниками принуждения, не должно требовать особого анализа, если область их действий ограничена поддержкой справедливого, принятого согласно процедуре закона.
Выдвинутая Эдмундсоном критика канонического взгляда на государство как на принуждающего [агента] демонстрирует более глубокие корни некоторых разногласий в трактовке принуждения. В действительности Эдмондсон предлагает задаться вопросом о том, насколько в действительности принуждение является особой и важной [практикой]. Принуждение может делать некоторые действия необходимыми, но в любой естественной среде люди ограничены множеством разных необходимостей: физическими границами наших тел в этой среде, нашей потребностью в питании, крове, защите и даже сообществе, признании и любови. В ситуации принуждения нечто меняется или добавляется к тому, что является для человека необходимым. Но повиновение принуждающим законам также может предоставлять большие возможности или свободу от необходимости, как это делает, вероятно, уголовное право, по крайней мере, хорошо отлаженное и осуществляемо‹28›е
Если справедливый закон защищает нас от преступников, при этом оставляя за нами свободу совершать любые морально оправдываемые действия (предполагая, что уголовное право запрещает лишь несправедливые действия), то угроза применения силы против правонарушителей, прописанная в законе, не заслуживает какого-то особого рассмотрения. Вместо этого мы можем оценивать это как смещение, регуляцию и рационализацию необходимостей, которым люди все равно подчинены. Эдмондсон и те, с кем он спорит, могут согласиться с тем, что принуждение, применяемое в незаконных целях, требует особого анализа и противодействия. Эдмондсон показывает, что до тех пор, пока мы придерживаемся морального подхода к принуждению, нам трудно увидеть, почему сама по себе техника и могущие ее применять агенты требуют с нашей стороны особого внимания.
Критика морального подхода может опираться на соображение, что у нас есть основание отслеживать и анализировать использование этих техник, независимо от этого, плохо оно или хорошо, справедливо или несправедливо. Причина в том, что когда агент, как и государство, имеет власть принуждать (независимо от воли [принуждаемого]), остается на его усмотрение, для каких целей он будет применять эту власть. Естественные нужды — это обычно предсказуемые, постоянные требования к нашим действиям, не берущие нас в расчет как индивидов. И наоборот, могущественные агенты — не обязательно предсказуемые, отмеченные постоянством или индифферентные к нам как индивидам. Они, скорее, могут выбирать цели или направлять свою власть для осуществления своих целей. Мы, конечно же, надеемся на то, что справедливость поставит им предел, однако даже самые справедливые государства склонны принимать дурные законы или содержат в себе нечто не поддающееся контолю. Поэтому важно иметь понятие, с помощью которого можно было бы анализировать техники, используемые при осуществлении закона, выдворении из страны, мафиозном рэкетирстве, уличном грабеже и воспитании непослушных детей, поскольку одно и то же государство может в ряде этих случаев или в каждом из них применять одни и те же средства и техники, и лишь прихоть лидера или парламента будет определять, в каких именно.
Не такое радикальное, но по-прежнему ревизионистское утверждение о принудительности закона состоит в том, что принудительность закона основывается на заявленном им праве использовать правоприменительную власть (enforcement power) (или авторизовывать ее использование). Грант Ламонд, проводя различие между, с одной стороны, государством и его аппаратами, и законом, с другой, утверждает, что принудительность закона следует искать не в том, что государство располагает такими правоприменительными механизмами, как полицейские департаменты и тюрьмы. С его точки зрения, принудительный характер законов относится к его притязанию на «право авторизовывать приведение к исполнению [обязанностей субъектов, ответственности и т.д.]… Дело не в том, что юридические обязанности основаны на санкциях, и не в том, что каждому закону должна соответствовать мера принуждения, а в том, что закон претендует на право подкреплять свои директивы силой» (Lamond 2001: 55). Впоследствии он уточняет, что закон претендует на неопределенную власть (authority) навязывать свои предписания.
Ламонд проводит такое различие, чтобы прояснить то, что, как ему кажется, составляет возможные затруднения. Во-первых, он утверждает, что принудительность закона не обязательно напрямую зависит от государственных аппаратов правоприменения; государство может использовать народные дружины, частные фирмы или другие частные средства для реализации этой функции‹29›
Более того, Ламонд хочет ограничить ответственность закона за принудительные действия только теми, которые он действительно авторизует: внеправовое использование принуждения со стороны государства не следует относить к принудительности закона. Он также утверждает, что некоторые из совершаемых согласно закону правоприменительных актов не являются сами по себе применением силы (игра слов: enforcements / uses of force. — Примеч. ред.); напротив, для того, чтобы заставить подданного следовать закону, можно конфисковать его банковские счета или же его могут лишить прав на нематериальную собственность (например, прав, защищающих интеллектуальную собственность). По мнению Ламонда, если эти вмешательства оказывают достаточное давление на волю тех, кто совершает выбор, давление, такое, что они меняют свое решение, то эти вмешательства следует считать принуждающими, даже если они не содержат угрозы или не накладывает санкции, обуславливающие деятельность управляемых людей (Lamond 2000: 56–57). В конце он, как и Эдмондсон, стремится преуменьшить предполагаемую роль принуждения в нашем признании закона, полагая, что многие функции закона не зависят от функции авторизации (или не-авторизации) правоприменительных мер (enforcements) в отношении подданных. «Легко преувеличить роль принуждения в поддержании правовой системы и переоценить его эффективность» (Lamond 2001: 57).
Утверждение Ламонда о принудительности закона исходит из нескольких предпосылок, одной из которых, несомненно, является его представление о самой природе принуждения, которое рассматривалось в разделе 2.5. Вне зависимости о того, обоснованно его представление или нет, то, что Ламонд говорит о причинах принудительности закона, рождает отдельные трудности. Даже если закон претендует на авторизацию правоприменительных мер для исполнения обязанностей подданных, неясно, почему сама претензия на такую авторизацию будет достаточной, чтобы сделать ее принуждающей. Законы государства могут предусматривать и предписывать, чтобы некоторые органы и механизмы были средствами их исполнения (напр., полиция, дружинники или роботы). Но если эти исполнители покидают службу или оказываются подкуплены/убиты/изолированы, принудительность закона быстро испаряется. Если, например, армия решит занять сторону не государства, а протестующих, закон мгновенно утратит свою силу, независимо от того, насколько это будет легитимно. Более того, если бы частное объединение или другая институция «притязала бы» на использование этих не имеющих четких границ исполнительных аппаратов (enforcement powers), то то, что определяло бы, были ли они в конечном итоге принудительными, будет завистеть от того, действительно ли они смогли реализовать эту исполнительную деятельность посредством аппаратов или механизмов, подобных аппаратам и механизмам, которые обычно использует государство (Lucas 1966: 61–2). К примеру, церковь может даже подкрепить свои угрозы утверждениями об окончательной участи души человека. Но такие утверждения о вознаграждении и наказании не дает церкви возможности принуждать, если понимать принуждение так, как оно понимается в контексте политики.
Некоторые прямо утверждали, что закону, чтобы считаться законом, не требуется опора на принуждение (Raz 1975), полагая, что значение имеет лишь то, был ли этот закон принят инстанцией, обладающей для этого необходимым авторитетом (см. так же Oberdiek 1976). Отвечая, среди прочих, Джозефу Разу, Эдмондсону и Ламонду, Экоу Йанка отстаивал традиционный взгляд, связывающий закон и принуждение, утверждая, что «правовые нормы должны в конечном счете обеспечиваться принуждением, чтобы подпадать под основное понятие закона» (Yankah 2008: 1198). Разработав свою собственную не-морализаторскую концепцию принуждения, Йанка утверждал, что закон требует не только власти, но и способности приводить к послушанию. Существует, кроме прочего, множество разных возможных нормативных систем, как, например, религиозные, которые претендуют на моральный авторитет, могущий призывать к повиновению, но право среди них выделяется, поскольку способно взывать к покорности с дозволения законных властей (justified authorities). Не соглашаясь с позицией Раза, что принуждение может быть лишь полезным инструментом, Йанка утверждает: «Неспособность какой-либо структуры даже теоретически приводить [нарушителя закона] к повиновению бросает серьезную тень на притязание данный системы быть правом» (Yankah 2008: 1236).
Если закону, чтобы быть законом, на самом деле требуется поддержка в виде принуждения, и если, следовательно, государства с необходимостью и легитимно будут применять принуждение против своих граждан, то на государство и его граждан ложится бремя оправдания. Кристофер Дж. Эберль считает, что «оправдательный либерализм» (который он связывает с работами либералов Ролза, Чарльза Лармора, Роберта Ауди и Джеральда Гуса) поступает совершенно правильно, полагая в качестве своей главной миссии оправдание принуждения. «Утверждение, что уважение требует публичного оправдания, обеспечивает основу для центрального компонента оправдательной либеральной этики гражданственности: норма уважения налагает на каждого гражданина обязательство дисциплинировать себя таким образом, чтобы он/она решительно воздерживались от того, чтобы поддерживать любой принудительный закон, в отношении которого он/она не могут предоставить необходимое публичное оправдание» (Eberle 2002, 12; см. также Gaus 2010). Но вместе с этой обязанностью необходимость государственного принуждения, как утверждается, ставит граждан конкретного государства в такие отношения друг с другом, которые отличаются от их отношений с теми, кто находится за пределами их государства. Майкл Блейк, следуя данному рассуждению, утверждает, что долг установления экономического равенства как дело справедливости «[…] является правдоподобной интерпретацией либеральных принципов только тогда, когда эти принципы применяются к индивидам, которые разделяют ответственность перед принудительной сетью государственного управления» (Blake 2002: 258).
Рассуждая подобным образом, Томас Нагель приходит к такому же заключению и доводит его до оправдания изгнания иммигрантов из государства. «Иммиграционная политика просто навязывается против граждан других государств; законы навязываются не их именем, равно как и не их просят принимать и поддерживать эти законы. Поскольку от них не требуют принятия, не требуется никаких оправданий, объясняющих, почему они должны соглашаться с такой дискриминационной политикой или почему их интересы были учтены в равной степени. Это достаточное оправдание для утверждения, что политика не нарушает до-политические права человека» (Nagel 2005: 129–30). Против этого взгляда выдвигалось возражение, что применение принуждения при депортации не-граждан можно считать нарушением основных прав (Huemer 2010) и принципов теории демократии (Abizadeh 2008; возражения и ответы см. в Miller 2009 и 2010; и Abizadeh 2010). Как будет показано в следующем разделе, принуждение, происходящее вне границ государства, является давней проблемой.
Применение теорий принуждения
Теории принуждения могут иметь значительные следствия для ряда различных областей, условно разделяясь на две категории: те, что касаются внутренней политики, и те, что касаются внешней. Эти категории также могут рассматриваться как суб-правовые и супра-правовые применения принуждения. В этом разделе будет дан беглый обзор дискуссий из этой области и будет рассмотрено, что они добавляют к пониманию принуждения.
Принуждение во внутренней политике
Вопросы принуждения поднимаются в бесчисленных правовых контекстах, включая суждения об ответственности и/или виновности в нарушениях и преступлениях. Мы могли бы, к примеру, пожелать узнать, добровольно ли было совершено незаконное действие или человек был принужден его совершить другой стороной. Множество случаев принуждения криминальны, и поэтому, вынося суждения о принуждении, мы должны решить, имели ли место насилие, вымогательство или шантаж. Договоры, браки, отказ от прав и разного рода расчеты ничего не будут значить, если они были совершены под принуждением. Исповеди, молитвы о прощении и обеты не имеют силы, если они были даны под принуждением.
Вне особого юридического контекста вопросы о принуждении могут возникать как в связи с формированием публичной политики, так и для целей измерения общественного прогресса. К примеру, мы можем захотеть узнать, были ли работники принуждены к труду и, если были, то при каких обстоятельствах — в отдельных задачах или в целом. Для выработки обоснования правовой реакции также может быть интересно, было ли сексуальное домогательство на работе или в школах принуждающим. Те, кто проводит медицинские и другие эксперименты, направленные на людей, должны быть способны определить, участвуют ли их подопечные свободно или под принуждением. Транзакции в рыночной экономике, как считается, увеличивают общее благосостояние (экономическую производительность), но только если они осуществляются свободно, в том числе и без принуждения. Возможность положиться на голосование по бюллетеням, опросам и другим коммуникациям будет также зависеть от того, были ли ответы свободны от принуждения.
Принуждение в международном контексте
В сравнении с внутриполитическим пространством, пространство международных отношений организовано менее ясным образом и менее справедливо. Хотя и возможно определить и проанализировать то, как здесь применяется принуждение, главные случаи принуждения в этой сфере как обогащают, так и усложняют представления о принуждении. Среди факторов, создающих эти трудности, можно отметить гораздо большую власть вовлеченных в процесс принуждения агентов; гораздо более слабую эпистемологическую позицию, которую они обычно занимают в отношении к мотивам, способностям и намерениям других участников; сложное и иррациональное поведение участников; отсутствие какой-либо центральной принуждающей власти, способной обеспечить основание для долговременных, справедливых и могущих быть принудительно осуществленными правил, которые будут регулировать поведение этих больших и могущественных агентов. Принимая в расчет эти трудности, сформулировать что-либо полезное относительно международного принуждения может быть очень трудно. Тем не менее, чтобы показать возникающие здесь проблемы, следовало бы кратко обсудить несколько особых тем.
Угрозы, связанные с ядерным оружием и другими видами оружия
О вопросах справедливости и эффективности различных стратегий избегания ядерной войны, равно как и ядерном шантаже/вымогательстве, было написано много хорошей философской литературы, хотя данная тема обсуждается сегодня не столь активно, как до распада Советского Союза. Рассуждать об этих вопросах осмысленно необычайно тяжело, отчасти потому что ставки политик и решений в этой области настолько высоки и необычайны, что практически не поддаются понимаю. Хотя ядерные угрозы представляются очень похожими по структуре на обычные угрозы принуждения, несколько фактов заставляют смотреть на них с другой стороны. Например, моральные и рациональные компоненты таких угроз значительно сложнее большинства обыкновенных случаев принуждения. Как сформулировал Грегори Кавка, существует «парадокс устрашения», согласно которому с точки зрения морали угрожать использованием средств ядерной атаки потенциально правильно, несмотря на то, что применять его по каким бы то ни было причинам имморально (равно и исполнять эту угрозу) (Kavka 1987). Это нарушает один правдоподобный принцип, согласно которому неправильно намеревать то, совершение чего было бы ошибкой («принцип ошибочных намерений»). Кроме того, хотя может быть правильным с моральной точки зрения угрожать ядерным оружием, Кавка утверждает, что ни одна разумная, мотивируемая моральными основаниями личность не смогла бы рассудительно сформулировать намерение, необходимое для того, чтобы сформулировать убедительную угрозу осуществления подобного. Писатели последующих лет спорили о том, действительно ли существуют эти парадоксы, как предполагает Кавка (См. напр., Dworkin 1985; Wasserstrom 1985; Kroon 1996.) Моральные затруднения, относящиеся к теме сдерживании ядерной войны и использования ядерного оружия, чаще всего очень важны и мало зависят, если зависят вообще, от нашего понимания этики принуждения как таковой (Hardin 1986). Но если посмотреть на это иначе, вопросы, касающиеся средств устрашения, включая вопросы о ядерном оружии, сообщают нам кое что о природе принуждения.
В некоторых случаях эта проблема решается тем, что принуждающий в случае исполнения угрозы получает репутационные выгоды, или же он обладает достаточным преимуществом во власти, так что исполнение угрозы может быть для него относительно тривиальным действием.
Но принуждение оказывается совсем другим и гораздо более сложным делом, когда исполнение угрозы оказывается для принуждающего намного более затратным, чем простое ее озвучивание. Угроза тяжкого возмездия в ответ на ядерный удар — парадигматический пример угрозы такого рода, которую было бы иррационально исполнять после того, как связанное с ней требование было отвергнуто, — если, к примеру, кто-то уже стал жертвой первого удара своего оппонента. По этой причине для того, чтобы сделать такую угрозу достоверной, нужно что-то большее, чем простое намерение и возможность ее исполнить. Скорее, требуется целая система, которая бы действенным образом освобождала этотпроцесс от принятия решений (создавая избыточность и автоматичность). Таким образом, получается, что ядерная угроза не может быть обыкновенной разновидностью принуждения, поскольку принуждающий не может оставаться свободным в отношении того, исполнит он угрозу или нет. (Объяснение того, какое это имеет значение, см. в DeRose 1992.)
Таким образом, ядерное сдерживание выдвигает на передний план рассмотрение двух фактов, которые современная философия принуждения склонна затемнять. Первый: глубокая связь между достоверностью чьих-то угроз и подкрепленной доказательством способностью и намерением их осуществлять; и второй: динамичная или стратегическая природа взаимодействий, в которых имеет место принуждение. Если исполнение угрозы будет иррационально, то принуждающий должен использовать какую-нибудь технику, чтобы продемонстрировать готовность к ее исполнению, или иначе продемонстрировать иррациональность (или что-то похожее на это) для того, сделать угрозу достоверной (см. Schelling 1956). Динамический аспект принуждения проявляется в том, что рациональность и мораль, заключенные в выборе одного актора, зависят от того, что выберет в ответ другой актор; и, следовательно, рациональность/мораль выбора последнего может оказаться зависимой от решений первого. Хотя найти удовлетворительное объяснение этих проблем весьма трудно, важно помнить об этих трудностях при анализе того, как действует принуждение.
Терроризм
Терроризм обычно ассоциируется с принуждением, но среди причин, заставляющих усомниться в его оправданности, принудительность, возможно, занимает менее значимое место. Гораздо важнее тот факт, что терроризмом, как правило (хотя не всегда), оказываются задеты невинные люди и гражданское население. Поэтому большая часть философских усилий в области осмысления терроризма была направлена на ответ на вопрос о том, приемлемы атаки на невиновных людей с моральной точки зрения, и, если это так, какие обстоятельства это допускают.
Если размышление о принудительности терроризма может что-то дать, то, вероятно, по той причине, что оно способно показать, что терроризм в некоторых отношениях отличается от более стандартных форм принуждения, а так же то, почему эти отличия могут делать его более, а не менее проблематичным. (Обсуждение этих вопросов см. в Waldron 2004).
У терроризма обычно менее конкретные цели, чем у принуждения, хотя те, кто использует террористическую тактику, могут стремиться к конкретным политическим изменениям или некоей конечной целей, иногда, по крайней мере на начальном этапе, состоящей порождении хаоса, страха и паники среди тех, на кого она направляют свои атаки.
Когда терроризм применяется в качестве инструмента, с намерением изменить положение дел, тактики террора обычно отличаются от обыкновенного принуждения тем, что люди, которым наносится вред и причиняется насилие, как правило, не суть те, на поведение кого хочет повлиять тот, кто этот террор использует. Действие террора состоит в том, что он порождает некоторый тип психологической реакции у тех, кто является целью или потенциальной мишенью его атак, и его целью обычно является оказание давления на политических лидеров или представителей — чтобы посеять хаос и панику среди тех, кого это затрагивает. Что касается темы власти, терроризм может выступать тактикой агента, располагающего подавляющей властью, но зачастую тем, кто прибегает к тактике террора, недостает такой власти, которая могла бы просто сломить сопротивление тех, на кого они направляют террор (по сравнению с тем, как полиция подавляет сопротивление практически любых преступников, которых она решила арестовать). Если бы не такая слабость, они могли бы просто заставлять своих жертв подчиняться своей воле, не прибегая к терроризму.
На самом деле, относительная слабость тех, кто применяет террористические средства, состоит в том, что им часто приходится совершать повторяющиеся акты насилия, чтобы их дальнейшие требования и угрозы были убедительны. Маловероятно, что группа, угрожающая террором, сможет добиться согласия со своими требованиями, если ранее она не использовала террор. Но поскольку использование террора обычно выдает сравнительную слабость, те, кто его применяют, рассчитывают также на свою «невидимость», географическую рассеянность и выбор слабых целей, из-за чего их атаки будет трудно предотвратить (по крайней мере теми способами, которые соответствуют значительной открытости в собственном обществе), равно как и ответить на них.
Принуждение в международных отношениях между богатыми и бедными
Хотя отношения между теми, кто имеет неравное экономическое могущество, обычно считаются принудительными, такое утверждение более верно в одних случаях, чем в других. Оно может быть верно применительно ко многим взаимодействиям между агентами из более богатого развитого мира и агентами из бедного и менее развитого мира. Но кроме факта неравенства в обладании богатствами, даже если его можно изменить, требуется еще кое-что, чтобы показать, что эти отношения и в самом деле принудительны. В конце концов, многие взаимодействия между богатыми и бедными имеют хотя бы видимость свободных экономических обменов. Иногда принудительность этих отношений состоит не столько в самих экономических обменах, а в том, что эти обмены строятся на более традиционных формах принуждения и ими поддерживаются.
В работе Томаса Погга можно найти предложения о том, как мы можем распознать принуждение в отношениях между более богатыми и более бедными частями света. (См. Pogge 2002, особенно гл. 4 и 8.) Он делает три главных предположения. Во-первых, Погг считает, что исторические случаи использования власти (и экономической, и военной) со стороны развитых наций стали причиной возникновения глобальной институционной рамки, которая навязывает и делает возможной несправедливую эксплуатацию бедных народов более могущественными агентами. Здесь мы можем взглянуть на парадигматические типы принуждения, такие как война и вторжение, вкупе с экономическими рычагами, создаваемыми благодаря контролю над такими институтами, как Мировой банк и Международный валютный фонд — чтобы увидеть, как была создана и как поддерживается эта рамка. Колониальные и военные вторжения — прошлые и будущие — оказывают продолжительное влияние на то, какие страны имеют власть диктовать условия международных отношений и торговли. Этот «институциональный порядок», который «имеет своим следствием воспроизводство радикального неравенства», обязан своим существованием «развитым странам, которые благодаря их широко превосходящим военным и экономическим силам контролируют эти правила и, следовательно, ответственны за следствия, которые можно предсказать» (Pogge 2002: 199–200).
Они могут использовать эти блага, приобретая оружие и снабжая армию, нужную им для удержания власти. Богатые страны и институты играют ключевую роль в этом процессе, признавая этих правителей в качестве легитимной власти, участвующей в сделках от имени своего народа, также стремясь обеспечить соблюдение сделок, которые эти автократы заключают против последующих правительств и против самих людей. Как отмечает Погг, когда транснациональные корпорации покупают права на что-то в одной из этих стран с автократическим правлением, «покупатель получает не только имущество, но все права и возможности собственника…защищенные и поддерживаемые судами и полициями всех других стран» (Pogge 2002: 113).
Глобальную бедность можно рассматривать как принудительную еще и в третьем отношении — сравнивая текущие условия [жизни] беднейшего населения с минимальным моральным уровнем, необходимым, чтобы какой бы то ни было институт, обладающий принудительной властью устанавливать права собственности, казался приемлемым. В сравнении с этим моральным изначальным уровнем, принудителен любой институт, если он оставляет некоторых людей без средств к существованию из-за их некомпенсируемого отчуждения от мировых природных ресурсов. Как замечает Локк, это следует из того факта, что никто рационально и добровольно не согласился бы на такую сделку (Pogge 2002: 202). «Богатейшие страны нарушают негативный долг справедливости, когда они, действуя заодно с правящими элитами бедных стран, принудительно исключают бедных из участия в равномерном распределении ресурсов» (Pogge 2002: 203).
Интерес к тому, чтобы связать разрастание глобальной бедности с принуждением, объяснен в предыдущей цитате. Погг утверждает, что подобная бедность — не просто естественный факт, а нечто такое, что богатые страны мира, получающие выгоду от своего господства над более бедными частями света, имеют негативное обязательство устранить. Таким образом, показывая, что эти установления не просто несправедливы, но несправедливо и принудительно навязаны одной из стороной другой стороне, Погг убежден, что лучшим вариантом для более богатых стран и институтов будет изменение структуры институтов глобальных экономических отношений. Эти основания даже оправдывают выплату компенсации наименее обеспеченным за их вынужденную лишенность своей доли в природных ресурсов, которая лежит в основе процветания остального мира.
Библиография
На русском:
· Аквинский Ф. Сумма теологии. Часть I. Вопросы 65–119. — М.: Сигнум Веритатис, 2008. Перевод А. В. Апполонова.
· Аквинский Ф. Сумма теологии. Часть II-I. Вопросы 1–67. — М.: Сигнум Веритатис, 2008. Перевод А. В. Апполонова.
· Аквинский Ф. Сумма теологии. Часть II-I. Вопросы 90–114. – К.: Ника-Центр, 2010.– 432 с. С.И.Еремеев: перевод, редакция и примечания.
· Аквинский Ф. Сумма теологии. Часть II-II. Вопросы 47–122. – 2013. С.И.Еремеев: перевод, редакция и примечания.
· Гоббс Т. (1991). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль.
· Кант И. (1994). Сочинения. В 8-ми т. Т.6.М.: Чоро.
· Кельзен Г. (2015). Чистое учение о праве. — СПб.: ООО Издательский Дом “Алеф-Пресс”.
· Локк Дж. (1988). Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. — М.: Мысль.
· Милль Дж. О свободе [Электронный ресурс]. URL: https://old.inliberty.ru/library/491-o-svobode.
· Милль Дж. Основы политической экономии. Том 3. М.: Прогресс, 1981.
· Нозик Р. (2008). Анархия, государство и утопия. — М.: ИРИСЭН.
На английском:
• Abizadeh, Arash (2008). “Democratic Theory and Border Coercion: No Right to Unilaterally Control Your Own Borders,” Political Theory, 36: 37–65.
• Abizadeh, Arash (2010). “Democratic Legitimacy and State Coercion: A Reply to David Miller,” Political Theory, 38: 121–130.
• Alexander, Lawrence A. (1983). “Zimmerman on Coercive Wage Offers,” Philosophy and Public Affairs, 12: 160–164.
• Anderson, Scott (2008a). “Of Theories of Coercion, Two Axes, and the Importance of the Coercer,” The Journal of Moral Philosophy, 5: 394–422.
• Anderson, Scott (2008b). “How Did There Come to be Two Kinds of Coercion?” Chapter 1 in Coercion and the State, David Reidy and Walter Riker (eds.), New York: Kluwer/Springer, 17–30.
• Anderson, Scott (2010). “The Enforcement Approach to Coercion,” Journal of Ethics and Social Philosophy, 5: 1–31.
• Anderson, Scott (2011). “On the Immorality of Threatening,” Ratio, 24: 229–242.
• Aquinas, Thomas (1920 [1273]). The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Second and Revised Edition. Translated by Fathers of the English Dominican Province. [Available online].
• Bayles, Michael D. (1972). “A Concept of Coercion,” In Pennock and Chapman (1972), 16–29.
• Bayles, Michael D. (1974). “Coercive Offers and Public Benefits,” The Personalist, 55: 139–144.
• Benditt, Theodore (1979). “Threats and Offers,” The Personalist, 58: 382–384.
• Blake, Michael (2001). “Distributive Justice, State Coercion, and Autonomy,” Philosophy and Public Affairs, 30: 257–296.
• Berman, Mitchell (2001). “Coercion without Baselines: Unconstitutional Conditions in Three Dimensions,” Georgetown Law Journal, 90: 1–112.
• Berman, Mitchell (2002). “The Normative Functions of Coercion Claims,” Legal Theory, 8: 45–89.
• Carr, Craig L. (1988). “Coercion and Freedom,” American Philosophical Quarterly, 25: 59–67.
• Christie, George (1999). “The Defense of Necessity Considered from the Legal and Moral Points of View,” Duke Law Journal, 48: 975–1042.
• DeRose, Keith (1992). “Deterrent Threats: What Can Matter,” Philosophical Studies, 67: 241–260.
• Dworkin, Gerald (1985). “Nuclear Intentions,” Ethics, 95: 445–460.
• Eberle, Christopher J. (2002). Religious Conviction in Liberal Politics, New York: Cambridge University Press.
• Edmundson, William (1995). “Is Law Coercive?” Legal Theory, 1: 81–111.
• Edmundson, William (1998). Three Anarchical Fallacies: An Essay on Political Authority, New York: Cambridge University Press.
• Feinberg, Joel (1986). Harm to Self, New York: Oxford University Press, especially chs. 23–24.
• Fowler, Mark (1982). “Coercion and Practical Reason,” Social Theory and Practice, 8: 329–355.
• Frankfurt, Harry (1988 [1973]). “Coercion and Moral Responsibility,” in The Importance of What We Care About, New York: Cambridge University Press. First published in Essays on Freedom of Action, Ted Honderich (ed.), London: Routledge & Kegan Paul, 65–86.
• Gaus, Gerald (2010). “Coercion, Ownership, and the Redistributive State: Justificatory Liberalism's Classical Tilt,” Social Philosophy and Policy, 27: 233–275.
• Gorr, Michael (1986). “Toward a Theory of Coercion,” Canadian Journal of Philosophy, 16: 383–406.
• Gunderson, Martin (1979). “Threats and Coercion,” Canadian Journal of Philosophy, 9: 247–259.
• Hardin, Russell (1986). "Deterrence and Moral Theory." Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 12: 161–193.
• Haksar, Vinit (1976). “Coercive Proposals,” Political Theory, 4: 65–79.
• Held, Virginia (1972). “Coercion and Coercive Offers,” In Pennock and Chapman (1972).
• Hetherington, Andrew (1999). “The Real Distinction Between Threats and Offers,” Social Theory and Practice, 25: 211–242.
• Hobbes, Thomas (1651). Leviathan. [Available online].
• Huemer, Michael (2010). “Is There a Right To Immigrate?” Social Theory and Practice, 36: 429–461.
• Kant, Immanuel (1996 [1797]). The Metaphysics of Morals, Mary Gregor (trans.), New York: Cambridge University Press.
• Kavka, Gregory (1978). “Some Paradoxes of Deterrence,” The Journal of Philosophy, 75: 285–302.
• Kelsen, Hans (1967 [1934]). The Pure Theory of Law, Max Knight (trans.), Los Angeles: University of California Press.
• Kroon, Frederick (1996). “Deterrence and the Fragility of Rationality,” Ethics, 106: 350–377.
• Lamond, Grant (1996). “Coercion, Threats, and the Puzzle of Blackmail,” Chapter 10 in Harm and Culpability, A. P. Simester and A. T. H. Smith (eds.), Oxford: Clarendon Press, 215–238.
• Lamond, Grant (2000). “The Coerciveness of Law,” Oxford Journal of Legal Studies, 20: 39–62.
• Lamond, Grant (2001). “Coercion and the Nature of Law,” Legal Theory, 7: 35–57.
• Locke, John (1823 [1689]). Two Treatises of Government, in The Works of John Locke, A New Edition, Corrected, Vol. V, London: Printed for Thomas Tegg; W. Sharpe and Son; G. Offor; G. and J. Robinson; J. Evans and Co.: Also R. Griffin and Co. Glasgow; and J. Gumming, Dublin. [Available online].
• Lucas, J. R. (1966). The Principles of Politics, Oxford: Clarendon Press.
• Lyons, Daniel (1975). “Welcome Threats and Coercive Offers,” Philosophy, 50: 425–436.
• McCloskey, H. J. (1980). “Coercion: Its Nature and Significance,” Southern Journal of Philosophy, 18: 335–352.
• McGregor, Joan (1988–89). “Bargaining Advantages and Coercion in the Market,” Philosophy Research Archives, 14: 23–50.
• Mill, John Stuart (1909 [1848]). Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy, seventh edition, William J. Ashley (ed.), London: Longmans, Green and Co. [Available online].
• Mill, John Stuart (1909–14 [1859]). On Liberty, Vol. XXV, Part 2 (The Harvard Classics), Charles W. Eliot (ed.), New York: P.F. Collier & Son. [Available online].
• Miller, David (2009). “Democracy's Domain,” Philosophy and Public Affairs, 37: 201–228.
• Miller, David (2010). “Why Immigration Controls Are Not Coercive: A Reply to Arash Abizadeh,” Political Theory, 38: 111–120.
• Murray, Michael J. and David F. Dudrick (1995). “Are Coerced Acts Free?” American Philosophical Quarterly, 32: 118–123.
• Nozick, Robert (1969). “Coercion,” in Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel, Sidney Morgenbesser, Patrick Suppes, and Morton White (eds.), New York: St. Martin's Press, 440–472.
• Nozick, Robert (1974). Anarchy, State, Utopia, New York: Basic Books.
• Oberdiek, Hans (1976). “The Role of Sanctions and Coercion in Understanding Law and Legal Systems,” American Journal of Jurisprudence, 21: 71–94.
• O'Neill, Onora (1991). “Which are the Offers You, Can't Refuse?” Chapter 7 in Violence, Terrorism, and Justice, R. G. Frey and Christopher Morris (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 170–195.
• Pennock, J. Roland and John W. Chapman (eds.) (1972). Nomos XIV: Coercion, Chicago: Aldine-Atherton, Inc.
• Pettit, Philip (1996). “Freedom as Antipower,” Ethics, 106: 576–604.
• Pogge, Thomas (2002). World Poverty and Human Rights, Cambridge, UK: Polity Press.
• Raz, Joseph (1975). Practical Reason and Norms, London: Hutchinson.
• Raz, Joseph (1986). The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press.
• Rhodes, Michael (2002). Coercion: A Nonevaluative Approach, Amsterdam: Rodopi.
• Ripstein, Arthur (2004). “Authority and Coercion,” Philosophy and Public Affairs, 32: 2–35.
• Ryan, Cheyney C. (1980). “The Normative Concept of Coercion,” Mind, 89: 481–498.
• Schelling, Thomas (1956). “An Essay on Bargaining,” American Economic Review, 46: 281–306.
• Stevens, Robert (1988). “Coercive Offers,” Australasian Journal of Philosophy, 66: 83–95.
• Swanton, Christine (1989). “Robert Stevens on Offers,” Australasian Journal of Philosophy, 67: 472–475.
• Van De Veer, Don (1979). “Coercion, Seduction, and Rights,” The Personalist, 58: 374–381.
• Waldron, Jeremy (2004). “Terrorism and the Uses of Terror,” Journal of Ethics, 5: 5–35.
• Wasserstrom, Richard (1985). “War, Nuclear War, and Nuclear Deterrence: Some Conceptual and Moral Issues,” Ethics, 95: 424–444.
• Wertheimer, Alan (1987). Coercion, Princeton: Princeton University Press.
• Wertheimer, Alan (2004). Consent to Sexual Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
• Williams, Bernard (1973). “A Critique of Utilitarianism,” in J. J. C. Smart and Bernard Williams, Utilitarianism: For and Against, Cambridge: Cambridge University Press.
• Yaffe, Gideon (2003). “Indoctrination, Coercion and Freedom of Will,” Philosophy and Phenomenological Research, 67: 335–356.
• Yankah, Ekow (2008). “The Force of Law: The Role of Coercion in Legal Norms,” University of Richmond Law Review, 42: 1195–1256.
• Zimmerman, David (1981). “Coercive Wage Offers,” Philosophy and Public Affairs, 10: 121–145.
• Zimmerman, David (2002). “Taking Liberties: The Perils of ‘Moralizing’ Freedom and Coercion in Social Theory and Practice,” Social Theory and Practice, 28: 577–609.